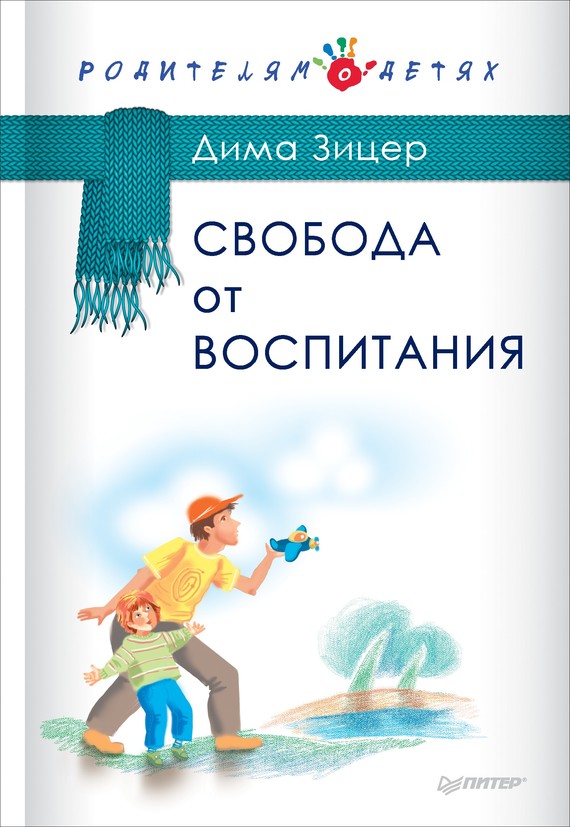И помочь ребенку мы можем только одним способом: остановившись на мгновение и подумав. Перед тем как сделать замечание, перед тем как прервать песню, остановить танец, омрачить беспричинное веселье. Нужно остановиться, глубоко вдохнуть и заняться собой. Простите, что я опять о том же…
Вдруг подумалось, что тут читатель может попробовать меня осадить, приведя жесткий пример, скажем, такой: «А если мы идем по улице, а мой ребенок вырывается и бежит на красный свет?» Что ж, разберемся с этой «сложной» ситуацией. Если человеку угрожает опасность (любому – белому или черному, мужчине или женщине, молодому или пожилому), мы, безусловно, постараемся его защитить и, если нужно, спасти. Поэтому останавливать ли ребенка, бегущего на красный свет, вопрос праздный – вы ведь знаете ответ?
Конечно, останавливать. И предупреждать об опасности, объяснять, каковы правила перехода через дорогу. Однако при этом следует помнить, что это ребенок. И преуменьшение существующей опасности – одно из проявлений детскости. Поэтому мы, бесспорно, должны, оставляя место для его самости, помогать ему и защищать его. Ведь у нас не вызывает сомнений необходимость помощи старикам: мы безоговорочно принимаем их слабость в качестве возрастной принадлежности. И не стремимся изменить человека, а лишь стараемся сделать его жизнь более комфортной. В чем же разница? Давайте и детям дадим возможность спокойно взрослеть, познавая мир в их собственном ритме и темпе.
А уж о ситуациях, когда человек поет на улице, прыгает и бегает, и говорить нечего. Вам стыдно за ребенка? А может быть, просто что-то вспомнилось независимо от вас самих? Например, как вас когда-то ругали именно за это? Или краем глаза вы заметили неодобрительный взгляд прохожего? Или – что тоже бывает – просто представили себе такой взгляд?..
Вот и снова получается, что ответственность лежит непосредственно на нас. Это наши ощущения, наши воспоминания, наши фантазии. Значит, в нас и дело.
ПРОДОЛЖАЕМ РАЗГОВОР
Часто бывает так: ребенок сломает что-нибудь, испортит, нахулиганит, а потом не может сам объяснить причину своего поступка. Стоит ли с ним об этом говорить?
Знаете, мне иногда кажется, что требование дать ответ на вопрос: «Почему ты это делаешь?» – самое глупое взрослое требование.
Давайте вместе подумаем, чего именно мы добиваемся, спрашивая ребенка об этом.
Полагаю, здесь есть два важных момента: во-первых, таким странным образом мы заявляем, что нам что-то не нравится. Причин, по которым мы формулируем это именно так, много, но к ним мы вернемся чуть позже. А во-вторых, мы в определенном смысле с помощью этой манипулятивной формулировки хотим обезопасить себя на будущее: дескать, сам поймет, почему ведет себя так, и перестанет. И первое и второе вызывает один и тот же вопрос: «Почему бы нам не сказать прямо о том, что нас волнует, не поделиться своими мыслями?» Впрочем, и ответ ясен: чтобы сообщить об этом, нужно по меньшей мере осознать, чего мы хотим, что нас раздражает, какую цель мы преследуем.
Вот так и получается раз за разом: говорим одно, имеем в виду другое, думаем третье. В самом деле, что можно ответить на вопрос: «Почему ты это сделал(а)?» Попробуйте-ка сами, только честно. Не очень-то получается, не так ли? Да и важно ли – почему? «Почему ты кричишь?» – «Потому что ты меня раздражаешь…» «Почему ты не поставил чашку на место?» – «Потому что забыл…» Разве такой диалог мы имеем в виду? Не проще ли просто сказать, что нам неприятно слышать крик, что чашка на своем месте для нас – основа порядка (ой ли?) и т. д.?
«Почему ты это сделал?» – вопрос, возникающий из недр нашего сознания почти всегда независимо от нас. Иллюзия тянет за собой другую иллюзию и запутывает нас все больше.
И еще одно. Когда-то Нина Михоэлс научила меня важнейшему педагогическому принципу: природа тренируется.
Это о многом: когда ребенок примеряет разные выражения лица, кривляясь перед зеркалом, когда пробует произносить новые слова и выражения, когда хочет есть не одно, а другое. Или когда отвечает не то, что хотели бы услышать взрослые, или когда нам кажется, что холодно, а он утверждает, что ему жарко, или когда он вообще ведет себя не так, как мы считаем правильным…
На исступленно повторяемый вопрос взрослого: «Почему ты так поступаешь?» – ответа часто просто нет. Не существует. Нужно понять: единственное, что скрывается за этим бездумным вопросом, – это желание управлять. Точнее, обретение иллюзии управления. Без которой иногда так трудно справиться с самим собой.
Теперь-то я точно знаю: бывают самые неожиданные и странные для нас «тренировки». Я не должен все понимать. Да и не способен. Почему? Так природа захотела. Его и моя.
И ведь как иногда хочется занять почетное тренерское место… Ничего не поделаешь: оно уже занято.
Вот так-то.
Часто приходится слышать, что с ребенком нужно вести себя на равных. Вы с этим согласны?
Честно говоря, я не до конца понимаю, о чем идет речь. Что такое «на равных»? Как со взрослым? А как мы говорим со взрослым? И почему, интересно, с ребенком нужно так говорить? Почему мы не пытаемся говорить с мужчиной как с женщиной (если, конечно, вы действительно способны определить разницу), с собакой как с козой, с пешеходом как с водителем?..
Думаю, я не открою секрет, если заявлю во всеуслышание: ребенок – не взрослый!
Попробуйте представить, что он с вами говорит как с ребенком. В этом случае вы ни за что бы его не поняли. Еще, пожалуй, и разозлились бы! Ребенок ведь тоже вынужден вертеться ужом на сковородке, использовать самые неожиданные ходы и формулировки, чтобы достучаться до нас и быть понятым.
Мы разные. У нас разный опыт, разные взгляды на жизнь, разные характеры – в этом и заключается один из главных принципов гуманистического подхода. В принятии и признании этой разности. Поэтому мне кажется, что с любым человеком нужно стараться говорить не как с равным, а как с другим. И конечно, стремиться понять, что для него важно, что ему интересно, в чем мы похожи, а чем отличаемся друг от друга.
И да, мы не равны. Не станем прекраснодушничать. На нашей стороне сила, поддержка общества, права.
Как с этим неравенством жить? Как не ущемлять, не унижать, не ломать, беречь,