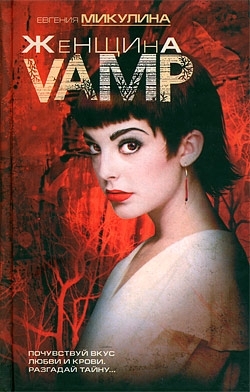– Как же – неуютно мне… Это ты смотри, будь осторожна рядом со мной. А то растаешь, как Снегурочка.
Она смеется:
– Почему Снегурочка? Ты и вчера меня так назвал.
Я мучительно краснею, но врать ей не могу – мне остается только признаться, до какой степени она занимает мои мысли, как часто я о ней мечтаю.
– Потому, что я думал… ну раньше… Я помнил, какие у тебя холодные пальцы, и все время задавался вопросом: а холодные ли у тебя щеки? Потому что хотел сделать вот так… – Я беру ее лицо в ладони, как вчера в прихожей. – Хотел так сделать, и все думал – какой будет твоя кожа. И думал, что холодной. И называл тебя мысленно Снегурочкой. И был прав, оказывается.
Она хмурится в притворном замешательстве – включается в игру:
– Хм… Если я Снегурочка, то кто же ты? Юный пастушок Лель?
Я качаю головой:
– Нет. Он противный инфантильный хмырь. И он ее не любил. Очевидно, я Мизгирь – горячий и страстный мужчина.
Она вскидывает брови:
– Не подходит. Снегурочка его не любила… И он умер. – Марина передергивает плечами, словно стряхивая неприятную ассоциацию. – Нет, это противная сказка, где никому не досталось ничего хорошего. А быть Снегурочкой при Деде Морозе я не хочу – у нее нет личной жизни. И таять над костром не хочу. Нам надо найти другую сказку.
Я пожимаю плечами:
– Снежная королева? Я, конечно, староват для Кая, но мы можем считать, что мальчик вырос. За время пути собачка могла подрасти.
– Я не отдам тебя какой-то занудной и правильной Герде. – В эту секунду она очень серьезна.
Я смотрю ей в глаза и отвечаю тоже совсем нешутливо:
– Я не уйду. Мне не нужна никакая Герда. У тебя есть лед в холодильнике? Давай сюда – я сложу тебе слово «вечность».
– И ты будешь сам себе господин, и я буду должна подарить тебе весь свет и новые коньки? – Она улыбается какой-то особенной, мудрой и тихой улыбкой.
– Весь свет и новые коньки – это отличная идея. Но ту часть насчет «сам себе господин» можешь забыть. Это мне не надо.
Зачем мне быть самому себе господином, если мне нравится принадлежать ей? Что я буду делать со своей свободой, если вдруг ее обрету – если она вдруг меня прогонит?
Она смотрит мне в глаза и повторяет – будто переспрашивая:
– Вечность?..
Я не понимаю, что означает выражение ее лица. По нему снова как будто проскальзывает боль. Я только киваю:
– Вечность.
Она закрывает глаза и наклоняется ко мне. Я прижимаюсь губами к ее лбу; моя рука лежит на ее волосах. Мы сидим так в постели, не шевелясь, очень долго. Будь моя воля, я бы вообще с места не двигался.
Но ее настроение уже изменилось – она мягко отстраняется от меня и соскакивает с кровати:
– Кстати, о холодильнике. Ты, надо думать, умираешь с голода. Пойдем, я тебе приготовлю завтрак.
Она удаляется своей характерной танцующей походкой – предположительно, в сторону кухни. Она ослепительно красива: тонкая, точеная обнаженная фигура, словно вырезанная из слоновой кости или какого-то особенно гладкого, лишенного прожилок мрамора. Ее нет рядом всего-то пять секунд, но я уже ощущаю пустоту и сиротское одиночество. Быть вдали от нее – невыносимо, пусть даже эта «даль» измеряется тремя метрами пола, покрытого пушистым белым ковром.
Марина замечает мой взгляд и грозит мне пальцем:
– Я знаю, о чем ты думаешь. У тебя голодные глаза. Но поверь мне: сначала тебе лучше утолить настоящий голод.
Я, конечно, повинуюсь ей и тоже поднимаюсь с постели. Но бормочу очень тихо:
– Мне лучше знать, какой голод – настоящий.
Она отвечает мне с порога комнаты, не оборачиваясь, и в голосе ее звучит смех:
– Я тебя слышала… И ты все равно не прав. Я хорошо знаю людей! Давай ты подождешь с такими безапелляционными утверждениями, пока не попробуешь мой фирменный омлет с сыром. Кстати,