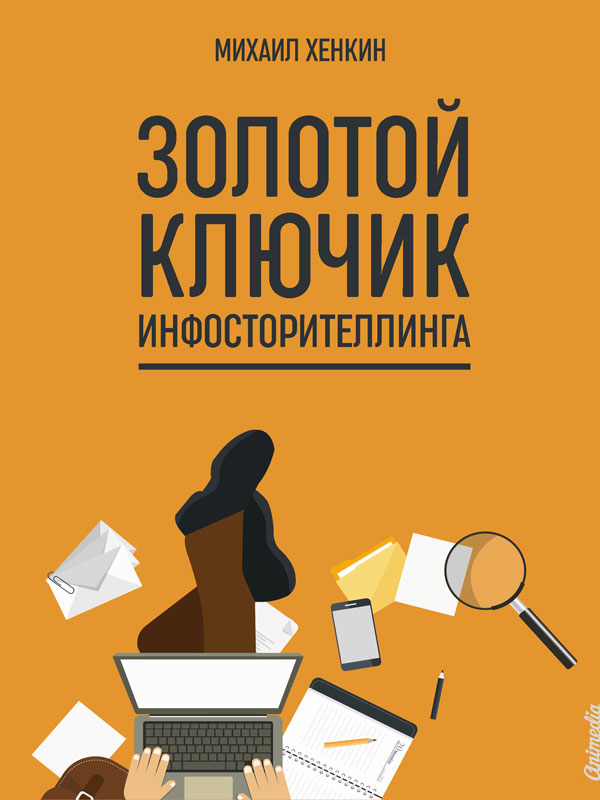— Почему все-таки вы решили, что я стесняюсь?
— А ты пишешь от третьего лица, от какого-то журналиста, а это плохо; это первый признак, что автор стесняется. Надо вести рассказ от себя, своего «я».
— Это я знаю, — говорю, — не первый раз замужем, но у меня материал не складывается.
— У тебя интересные факты, — говорит Юрий Петрович, — ты же производство хорошо знаешь, на заводе свой человек. Придумай «кирпичик».
— Какой еще «кирпичик»?
— Допустим, ты заходишь в курилку и случайно слышишь, как спорят два человека — толстый и тонкий. И спорят они о какой-то заготовке, которую срочно надо сдавать. И ты проявляешь к этому интерес и начинаешь разбираться в сути их спора. И пошло-поехало. Заготовка и есть тот самый «кирпичик», на котором ты построишь весь свой очерк. Ну, ты понимаешь?
В моем мозгу как будто искра проскочила. Действительно. Вот оно! Как все просто! Спор и расследование сути спора!
Я поехал домой и стал писать. Появились характеры, интриги, конфликты. Текст из разрозненных кусков преображался на глазах, превращался в стройную систему; каждая реплика, каждая цифра теперь била в одну точку.
Причиной всех столкновений и раздоров стало приспособление, которое придумал Василий Иванович Вавилин, станочник-универсал, рабочий с огромным стажем, умница, душевный человек, настоящий Кулибин.
Производительность труда от применения его нововведения возрастала в 10 раз. Однако ничего, кроме огорчений, изобретателю его придумка не принесла.
Зарплата у Василия Ивановича осталась прежней, вдобавок испортились отношения в бригаде.
Он разругался с начальником цеха.
На него начали наезжать технологи и специалисты Отдела труда и зарплаты.
Вот так простая железяка ожила и обрела достаточно склочный характер, рассорив и разделив на части большой коллектив.
Несколько дней спустя очерк под названием «Айсберг имени сверловщика Вавилина» был переписан, сдан ответственному секретарю и получил очень хорошую оценку и в редакции, и у читателей.
В ответ на публикацию пришло много писем — как хвалебных, так и ругательных.
До сих пор в моем домашнем архиве хранится гневное письмо руководителя одного отраслевого НИИ о том, что подобные статьи подрывают экономические устои Советской страны.
Для меня же гораздо большее значение имели не оценки, а то, что благодаря этому очерку я вдруг обнаружил, какая сила скрыта в «кирпичиках» произведения.
И теперь, когда молодые коллеги говорят, что у них ничего не получается, могу посоветовать только одно:
— Ребята, ищите «кирпичики»!
— Какие еще «кирпичики»? — не понимают коллеги.
— Ну, «кирпичики», вокруг которых у вас все и закрутится. Не можете найти, так придумайте. Сказки почитайте, в конце концов, или романы. Там полно таких «кирпичиков»: игла Кощея, волшебная палочка Гарри Поттера, старая лампа Аладдина, яблоко раздора, подвески королевы, сожженная рукопись, бриллианты мадам Петуховой, медальон на шее у кота, в котором спрятана вселенная, да мало ли что еще…
У каждого сочинителя такие «кирпичики» есть. Только они их скрывают, хитрецы!
Ведь творчество, ребята, — это айсберг. Нам видна лишь его верхушка — на треть, а то и меньше.
А главная его часть, ребята, где-то там — глубоко под водой!
Глава 7. Пример «кирпичика»
ДВЕРЬ
Бабушка жила в квартире одна. Дверь у нее была старая, покосившаяся, кривая. Замок на двери был тоже старый, поломанный.
Бабушка страшно переживала, что дверь фактически не запирается.
— Да вы не переживайте, — говорили соседи, — мы — рядом, если что — присмотрим.
— Вот скоро сын даст мне денег на новую дверь, — хвастала бабушка.
Сын у бабушки был добрый, внимательный. Приносил бабушке продукты, вызывал врача.
Однажды пришли мастера и поставили новую дверь. Металлическую, блестящую, с красивым дизайном и номером квартиры. Номер особенно понравился бабушке: он сиял почти как золотой.
Несколько дней бабушка ходила счастливая.
— Посмотрите, какая у