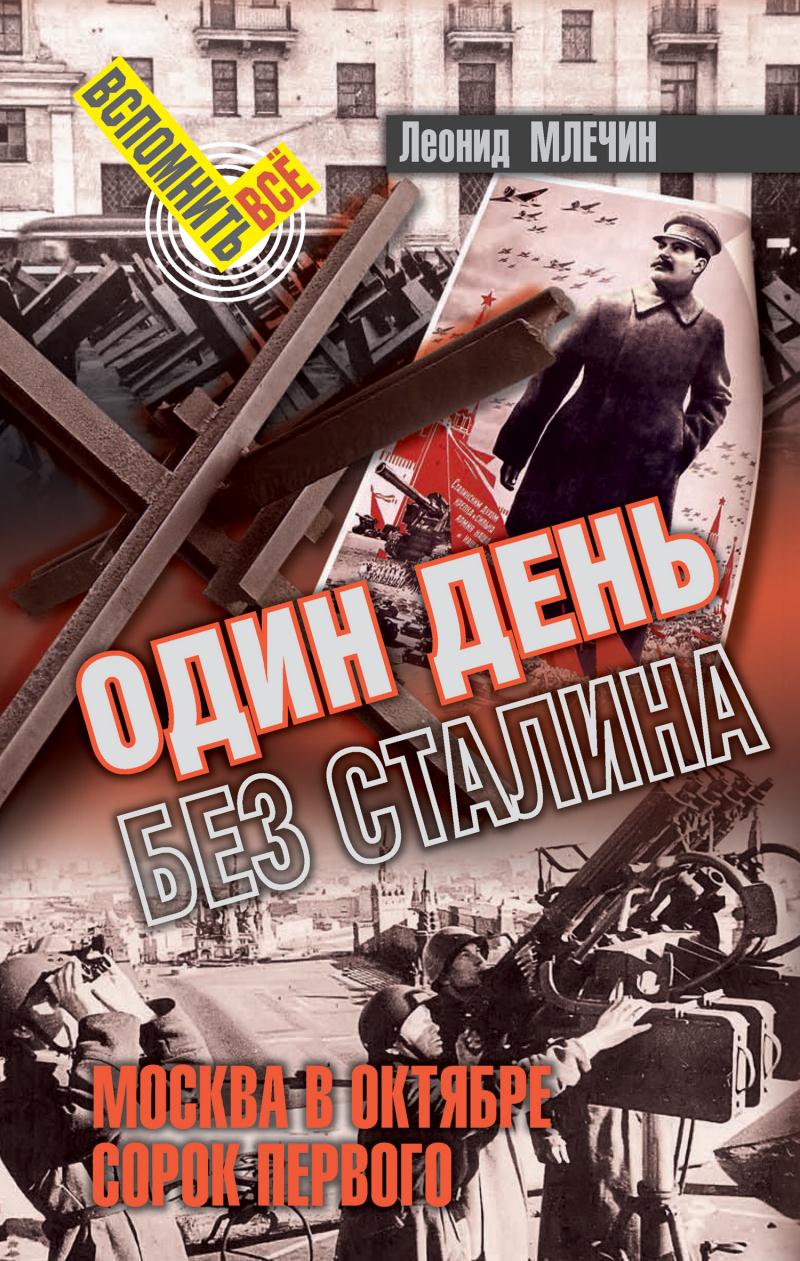Леонид Михайлович Млечин
Один день без Сталина. Москва в октябре сорок первого
Вспомнить всё –
2
Текст предоставлен правообладателем
«Один день без Сталина. Москва в октябре сорок первого / »: Аргументы недели; Москва; 2018
ISBN 978-56040606-6-7
Аннотация
Есть тайны, известные немногим, есть события, которые не любят вспоминать.
Судьба Москвы в сорок первом году решалась не в декабре, а в октябре, когда казалось, что
город некому защитить и немецкие войска могли взять столицу. 16 октября 1941 года
войдет позорнейшей датой, датой трусости, растерянности и предательства в историю
Москвы. Защищать свой город предстояло самим москвичам. Оборона Москвы – это
история невероятного мужества и самопожертвования. В книге Леонида Млечина
читатель найдет ответ на вопрос, почему большинство документов, касающихся осени
сорок первого, в московском партийном архиве до сих пор не раскрыты.
Леонид Млечин
Один день без Сталина. Москва в октябре сорок первого
От автора
Я писал эту книгу много лет. Дольше любой другой. Не так просто распутать этот
сложнейший клубок мужества и героизма, подлости и трусости. Одни и те же фигуры
предстают то видными государственными деятелями, то жалкими ничтожествами. А как
быть с героями, которые на глазах превращаются в предателей?
Есть тайны, известные немногим. Есть истории, которые не любят вспоминать. Судьба
Москвы в сорок первом году решилась не в декабре, когда советские войска перешли в
наступление, а в октябре, когда казалось, что город некому защитить и немецкие войска
фактически могли взять столицу.
Официальная история многомесячной битвы за Москву поделила на всех радость
первой победы в Великой войне. Но это несправедливо.
Когда бездарные и неудачливые генералы потеряли свои войска, когда большие
начальники позорно бежали из столицы, когда одни готовились встретить немцев, а
некоторые «дамы» устремились в парикмахерские – делать прически, другие сказали себе:
«Это мой город, немцы войдут в него только через мой труп». Они занимали боевые позиции
по всей Москве, в самом центре, на улице Горького… Защищать свой город предстояло
самим москвичам. Они собирались сражаться за каждый квартал, за каждую улицу, за
каждый дом. Как это будет потом в Сталинграде.
Оборона Москвы – это история невероятного мужества и самопожертвования. Но это
еще и история о том, как слабая власть, неумелые и трусливые руководители едва не сдали
3
врагу город. Жестокая военная реальность стащила их с трибун, выдавила из просторных
кабинетов, откуда они правили страной и городом, высокомерно объясняли народу, как ему
жить и работать. Растерянные, запаниковавшие, ни на что не способные – вместо того чтобы
защищать город, они, прихватив немалое имущество, бросились бежать.
16 октября 1941 года стало днем позора. Это был день, когда власть, думая только о
своем спасении, практически бросила столицу на произвол судьбы. Многое, что связано с
этим днем, по-прежнему держится в секрете. За трусость, преступную в военное время, наказали очень немногих. И в общем не тех, кто едва не сдал город.
Сталин, который никому и ничего не прощал, по существу, повелел забыть
октябрьский позор. Иначе пришлось бы признать, что знаменитых сталинских наркомов как
ветром сдуло из города, что партийные секретари праздновали труса, что вознесенные им на
вершину власти чиновники оказались ни на что не годными, что вся созданная им
политическая система едва не погубила Россию…
Большинство документов, посвященных осени сорок первого, даже протоколы
заседаний бюро горкома и обкома партии в Московском партийном архиве все еще
нераскрыты.
Часть первая
Бежать или сражаться
Ближняя дача заминирована
Некоторые писатели и историки по сей день уверены, будто в решающий для судьбы
Москвы день, 16 октября 1941 года, генеральный секретарь ЦК ВКП(б), председатель
Государственного Комитета Обороны, Верховный главнокомандующий, председатель
Совета народных комиссаров, нарком обороны Иосиф Виссарионович Сталин приехал на
вокзал, где его ждал специальный состав, чтобы вывезти из города.
Паровоз стоял под парами. Аппарат ЦК партии и Верховного Совета, правительство и
наркоматы, Генеральный штаб Красной армии и прочие многочисленные ведомства уже
спешно покинули Москву. Немецкие войска стояли у ворот и вот-вот могли вступить в
город. Возникло ощущение, что столица беззащитна.
Вождь обещал покинуть город последним. И вот будто бы Сталин, размышляя, ехать
или не ехать, битых три часа ходил по платформе, но в вагон так и не поднялся, потом
махнул рукой, сел в машину и вернулся в Кремль…
Это не более чем легенда. В тот день Сталин на вокзал вообще не ездил. Да и в любом
случае из Москвы охрана вывозила бы его, конечно же, не днем, а ночью. Железнодорожный
состав, даже прикрытый зенитными установками на платформах, мог попасть под
губительный удар вражеских бомбардировщиков.
К тому же вождь вообще не собирался покидать город на поезде. Слишком мала
скорость – а вдруг наступающие немецкие войска догонят?
Сталин собирался улететь из Москвы. На Центральном аэродроме дежурили
транспортные самолеты «Дуглас» американского производства, чтобы в самый последний
момент эвакуировать вождя и его окружение из столицы.
В Москве еще находилась группа офицеров Генерального штаба во главе с
генерал-майором Александром Михайловичем Василевским. Ему разрешили оставить
восемь человек. Василевский сказал, что этого недостаточно.
«Но Сталин стоял на своем, – вспоминал Василевский. – Оказывается, на аэродроме
находились в полной готовности самолеты… И на всю группу Генерального штаба было
оставлено девять мест – для меня и моих восьми офицеров».
В Куйбышеве (ныне город вновь называется Самарой) под зданием обкома партии
спешно строили бункер для Сталина и сопровождающих его чиновников (рассчитывали
примерно на сто пятнадцать человек). Бункер гарантировал защиту от авиационных бомб и
4
отравляющих газов (тогда опасались, что немцы применят химическое оружие). Разместили
установку регенерации воздуха, создали давление, чуть превышающее атмосферное, так что
бункер был герметичен. Завезли запас продуктов, баки с питьевой водой, баллоны с
кислородом. В бункере можно было продержаться без связи с внешним миром пять суток.
Кабинет Сталину устроили на глубине тридцати четырех метров. Он был скопирован с
кремлевского площадью около пятидесяти квадратных метров. За кабинетом – личный
туалет с канализационной системой… Основной вход в бункер находился в вестибюле
обкома, там постоянно дежурил чекист. Куйбышевское начальство страшно нервничало, ожидая приезда вождя.
Еще раньше решением политбюро выделили лечебно-санитарному управлению Кремля
пятнадцать вагонов для вывоза в Куйбышев врачей, необходимого медицинского
оборудования и запаса лекарств с тем, чтобы в городе на Волге развернули поликлинику и
больницу для высшего начальства и отдельно – поликлинику и больницу для руководства
Наркомата внутренних дел.
Отсюда, с Волги, Сталин предполагал вести войну дальше. Все документы, его архив, книги, даже личные вещи уже были эвакуированы. Ближнюю дачу, где он жил все последние
годы (в московской квартире даже не ночевал), заминировали. Ее собирались взорвать, чтобы немцы не устраивали экскурсий по личным покоям советского вождя. Вождь
задержался в столице всего на несколько часов, чтобы завершить последние дела. Он сказал
членам политбюро, что уедет из Москвы вечером 16 октября.
14 октября на приеме у Сталина побывал нарком связи Иван Терентьевич Пересыпкин, он же заместитель наркома обороны и начальник Главного управления связи Красной армии.
При разговоре присутствовали начальник Генерального штаба маршал Борис Михайлович
Шапошников и его заместитель (и будущий сменщик) генерал-майор Александр
Михайлович Василевский (см. «Военно-исторический журнал», № 6/2007).
Иван Пересыпкин просил определить местонахождение запасного пункта управления
Ставки Верховного Главнокомандования, чтобы он мог заблаговременно подготовить
средства связи.
Сталин снял со стены карту европейской части Советского Союза, расстелил ее на
рабочем столе и спросил:
– Что вы предлагаете?
Пересыпкин доложил, что самым удобным местом представляется Куйбышев. Сталину
предложение не понравилось-там слишком много иностранцев. Куйбышев стал «запасной
столицей», туда эвакуировали не только партийное руководство и наркоматы, но и
дипломатические представительства.
– Какой еще пункт подходит для этой цели? – осведомился Сталин.
Пересыпкин назвал Казань, но добавил, что оттуда обеспечить связь с фронтами будет
значительно труднее. Тогда вождь сам предложил город Арзамас. И потребовал:
– Надо уложиться в шесть-семь дней.
Пересыпкин не решился возразить вождю и объяснить, что Арзамас совсем для этой
цели не подходит…
В Арзамасе было исключительно плохо и со связью, и с дорогами. Исполнение приказа
вождя потребовало титанических усилий. Дорогу две недели ровняли местные колхозники, бросив свою работу, – лопатами и мотыгами. А сверхсекретный «Объект 808» на окраине
города за месяц построили заключенные из соседнего лагеря. После чего – ради сохранения
тайны – заключенных отправили на передовую в штрафбат. Надо понимать, не без тайной
надежды на то, что они будут убиты в бою и унесут тайну запасной Ставки с собой в
могилу…
Протянули пятикилометровую железнодорожную линию. Туда перегнали два поезда
связи. А рядом в своем спецпоезде разместился эвакуированный из Москвы Генеральный
штаб. Отсюда операторы пытались управлять действиями Красной армии на огромном
фронте от севера страны до юга. На случай, если и Сталин пожелает обосноваться в
5
Арзамасе, вождю подобрали двухэтажный дом. На первом этаже развернули станцию
правительственной междугородней высокочастотной связи.
«Вместо того чтобы задолго до начала войны создать и хорошо оборудовать запасный
пункт управления Ставки Верховного Главнокомандования (и не один), – недоумевал Иван
Пересыпкин, – приходилось это делать в тяжелейших условиях военного времени, в большой
спешке, в трудной обстановке при отсутствии достаточного резерва сил и средств связи…»
Самый страшный день
Обычно Сталин просыпался очень поздно и приезжал с дачи в Москву, в Кремль, часам
к двенадцати. В ночь на 15 октября он, видимо, почти не спал. Ему предстояло принять
решение, от которого зависела его собственная судьба. 15 октября Сталин распорядился
собрать политбюро необычно рано. Охранникам пришлось поднять с постели остальных
членов партийного руководства около восьми утра. В девять они собрались в кабинете
вождя.
Обсуждался один вопрос – кому и когда покидать Москву. Вождь объявил, что всем
нужно сегодня же, то есть 15-го вечером, эвакуироваться. Он сам уедет из города на
следующее утро, то есть 16 октября.
Ночью он подписал постановление Государственного Комитета Обороны «Об
эвакуации столицы СССР г. Москвы», которое едва не погубило город:
«Ввиду неблагополучного положения в районе Можайской оборонительной линии, Государственный Комитет Обороны постановил:
1. Поручить т. Молотову заявить иностранным миссиям, чтобы они сегодня же
эвакуировались в г. Куйбышев (НКПС – т. Каганович обеспечивает своевременную подачу
составов для миссий, а НКВД – т. Берия организует их охрану.) 2. Сегодня же эвакуировать Президиум Верховного Совета, а также Правительство во
главе с заместителем председателя СНК т. Молотовым (т. Сталин эвакуируется завтра или
позднее, смотря по обстановке).
3. Немедля эвакуироваться органам Наркомата обороны и Наркомвоенмора в г.
Куйбышев, а основной группе Генштаба – в Арзамас.
4. В случае появления войск противника у ворот Москвы поручить НКВД – т. Берия и
т. Щербакову произвести взрыв предприятий, складов и учреждений, которые нельзя будет
эвакуировать, а также все электрооборудование метро (исключая водопровод и
канализацию)».
Сталин исходил из того, что немцы прорвутся в столицу. Требовал удержать хотя бы
часть города, чтобы иметь право сообщать: Москва держится. Когда заместитель главы
правительства Анастас Иванович Микоян – он сам об этом вспоминал – зашел к вождю, Сталин с Молотовым изучали карту западной части Москвы, смотрели, что можно удержать
в своих руках. Если и это не удастся, решил Сталин, город придется взорвать.
В одиннадцать утра в Кремль вызвали всех наркомов. Провели в зал заседаний
Совнаркома. Вошел Вячеслав Михайлович Молотов, второй после Сталина человек в
правительстве. Он даже не сел в председательское кресло. Распорядился:
– Сегодня же все наркомы должны выехать из Москвы в места, установленные для
размещения их наркоматов по плану эвакуации.
Кто-то переспросил: как быть, если наркомат еще не перебазировался на новое место?
– Все равно выехать сегодня, а эвакуацию наркомата поручить одному из заместителей.
Страна зависела от Сталина. Когда он объявил, что руководство страны покидает
столицу, все, кто узнал об этом, поспешили исполнить указание вождя. Они делились
пугающей информацией со всеми знакомыми, и весть об оставлении Москвы мгновенно
распространилась по городу. Началось нечто неописуемое. На окраине Москвы слышна была
артиллерийская канонада, и чиновники решили, что битва за столицу проиграна и немцы
вот-вот войдут в город.
6
Руководителей страны и города охватил страх. Стала ясна слабость системы, казавшейся столь твердой и надежной, безответственность огромного и всевластного
аппарата, трусость сталинских выдвиженцев. Думали только о собственном спасении, бежали с семьями и личным имуществом и бросали столицу на произвол судьбы.
Организованная эвакуация превратилась в повальное бегство.
Трусость начальников породила отчаяние в городе, и многие москвичи уходили
пешком, без денег, теплых вещей, а то и без необходимых документов, плохо понимая, куда
они направляются и что будут там делать.
В ночь на 16 октября Военный совет Московского военного округа отправил восемь
отрядов,
которые
минировали
Дмитровское,
Ленинградское,
Волоколамское,
Звенигородское, Можайское, Киевское, Старокиевское и Подольское шоссе. Мины на
дорогах должны были немного остановить продвижение немцев.
Ночь была мрачной и тяжелой. Шел снег с дождем. Когда рассвело, ситуация в городе
стала еще хуже. Наступил самый страшный день в истории обороны Москвы.
«Город казался холодным, пустым, мертвым, – вспоминал тревожные ночи октября
1941 года полковник Юлий Юльевич Каммер, начальник инженерного отдела штаба
противовоздушной обороны Москвы. – Город в кромешной темноте. Не столько видятся, сколько угадываются окрашенные белым кромки тротуаров, столбы и другие препятствия на
пути пешехода. Впереди машин бежит безжизненная полоска света, просочившаяся через
узкую щелочку в «наморднике», надетом на автомобильную фару. Ходишь, как в дремучем
лесу, чуть ли не ощупью».
Уличное освещение давно отключили. Ввели строгий режим светомаскировки. Окна
домов были затянуты плотной бумагой или тканью. На фары машин, троллейбусов и
трамваев поставили специальные маскировочные сетки. Ввели строгие лимиты на
пользование электричеством. Житель Москвы имел право жечь одну лампочку мощностью в
пятнадцать ватт на площади пятнадцать квадратных метров, если же площадь комнаты была
тридцать квадратных метров, он мог жечь две лампочки.
Утром 16 октября в Москве, впервые за всю историю метрополитена, его двери не
открылись. Метро не работало. С третьего контактного рельса сняли напряжение. Поступил
приказ демонтировать и вывезти все оборудование метрополитена. Эвакуировали
вагоноремонтные мастерские и примерно сто вагонов. (В начале сорок второго все стали
возвращать назад в Москву. На территории мастерских открыли дрожжевой заводик, который снабжал столовые метро белковыми дрожжами – еды не хватало.) Закрытые двери метро сами по себе внушали страх и панику. Метро – самое надежное
транспортное средство. Главное убежище во время ежедневных налетов авиации врага. Уж
если метро прекратило работу, значит, город обречен…
«16 октября метро не открылось, стояли трамваи, – вспоминал очевидец. – На улицах
как-то заметнее стали черные служебные эмки, а автобусы куда-то внезапно исчезли. По
набережным Москвы-реки на равном расстоянии друг от друга возвышались на привязи
колбасы аэростатов. С наступлением сумерек они медленно, почти незаметно для глаз, беззвучно возносились в небо. И всеобщая оглушительная тишина. Такой тихой Москва
никогда не была…»
Трамваи и троллейбусы тоже не вышли на линию. Директоры трамвайных депо
доложили своему начальству, что к ним прибыли военные саперы, чтобы минировать
оборудование. А ведь с сентября трамвай приобрел военное значение – в вагонах стали
перевозить воинские части, доставлять рабочих на строительство оборонительных
сооружений. Составили правила работы вагонных бригад в случае воздушной тревоги и
химического нападения:
«По сигналу «воздушная тревога» вагоновожатые обязаны остановить поезд трамвая в
таком месте, где он не мешал бы уличному движению. Категорически запрещается
останавливать поезда на перекрестках улиц и переулков, на мостах, против подъезд ов
крупных фабрик, заводов, складов и гаражей, против зданий пожарных и воинских частей,
7
больниц».
Москва без метро, трамваев и троллейбусов производила пугающее впечатление.
Словно она уже умерла, и москвичи присутствуют на похоронах любимого города. Как
водится, жителям никто не сообщал, что происходит.
«16 октября, – вспоминал второй секретарь Московского горкома партии Георгий
Михайлович Попов, – мне позвонил Щербаков и предложил поехать с ним в НКВД к Берии.
Когда мы вошли в его кабинет в здании на площади Дзержинского, Берия сказал:
– Немецкие танки в Одинцове».
Эти слова звучали пугающе. Одинцово – дачное место на расстоянии всего двадцати
пяти километров от центра Москвы. Нарком внутренних дел Лаврентий Павлович Берия и
первый секретарь Московского обкома и горкома партии Александр Сергеевич Щербаков
бросились к Сталину за инструкциями. Тем временем Попову приказали собрать секретарей
райкомов партии. Вернувшись вскоре из Кремля, Щербаков объявил своим подчиненным:
– Связь с фронтом прервана. Эвакуируйте всех, кто не способен защищать Москву.
Продукты из магазинов раздайте населению, чтобы не достались врагу. Всем прекратившим
работу выплатить денежное пособие в размере месячного заработка…
Московский секретарь Александр Сергеевич Щербаков был одним из самых молодых
чиновников в высшем руководстве страны и стремительно набирал политический вес. Он
возглавлял и область, и город – в ту пору Московский горком подчинялся областному
комитету. Один из его подчиненных вспоминал, что «на рабочем столе Щербакова никогда
не было никаких бумаг или книг – только аппарат для связи с Кремлем, телефонный
справочник и простой письменный прибор». Резолюции на бумагах Щербаков, подражая
Сталину, всегда писал красным или синим карандашом.
Перед войной Сталин сделал его секретарем ЦК, членом оргбюро и кандидатом в
члены политбюро. Кроме того, Щербаков возглавил важнейшее Управление пропаганды и
агитации ЦК ВКП(б), то есть стал руководителем всей идеологической работы.
Это была нагрузка, превышающая человеческие возможности. Карьера Щербакова
развивалась столь успешно, что со временем он вполне мог стать вторым человеком в
партии, оттеснив других членов политбюро. Но он был тяжелым сердечником, неправильный образ жизни усугубил его нездоровье.
У Александра Сергеевича Щербакова была неважная наследственность. В
автобиографии он писал об отце: «Душевно заболел и попал в лечебницу. Причиной болезни
являлось также, очевидно, и то обстоятельство, что отец страдал алкоголизмом. Что стало
дальше с отцом, я не имею понятия».
Странное впечатление, конечно, оставляет такое нарочитое отсутствие интереса к отцу, холодно-отстраненный тон. Но упоминание о его недуге должно было заставить самого
Александра Сергеевича учесть трагический опыт отца… Ему следовало бы соблюдать
умеренность. Для него самого участие в постоянных сталинских застольях было смертельно
опасным. Но Щербаков об этом не думал, напротив, почитал за счастье получить
приглашение на дачу к вождю, где не знали умеренности ни в еде, ни в выпивке.
Даже на фоне других руководителей-догматиков Щербаков выделялся своим
идеологическим рвением. Однажды он вызвал главного редактора «Правды» Петра
Николаевича Поспелова (будущего академика и секретаря ЦК) и ответственного редактора
«Красной звезды» генерал-майора Давида Иосифовича Ортенберга. На столе лежали свежие
номера газет, где фотографии были расчерканы красным карандашом. Щербаков наставлял
редакторов:
– Видите, снимки так отретушированы, что сетка на них выглядит фашистскими
знаками. Это заметил товарищ Сталин и сказал, чтобы вы были поаккуратнее. Нужны вам
еще пояснения?
Предположение о том, что газетные ретушеры наносят фашистские знаки, было
совершенно безумным. Но с тех пор главные редакторы в лупу рассматривали оттиски полос
с фотографиями. Если что-то смущало, снимок возвращался в цинкографию, где его
8
подчищали…
16 октября по распоряжению заместителя главы правительства Анастаса Ивановича
Микояна председатель исполкома Моссовета Василий Прохорович Пронин приказал
бесплатно выдать каждому работающему два пуда муки. В городе работала только одна
мельница. Дважды в нее попадали немецкие бомбы. Опасались, что в результате очередного
налета она вовсе выйдет из строя, столица останется без хлеба и люди начнут голодать.
Бдительные чекисты доложили о раздаче хлеба Сталину. Пронина вызвали на заседание
Государственного Комитета Обороны.
– Пронин организовал выдачу населению по два пуда муки, – объявил вождь. – И
ссылается, что сделал это с разрешения правительства.
Он обратился к председателю исполкома Моссовета:
– Верно это или нет?
– Да, товарищ Сталин, верно.
– А кто тебе дал распоряжение?
– Микоян.
«Откажись Анастас Иванович от своих слов – вспоминал Василий Пронин, – меня
немедленно расстреляли бы и разговаривать не стали».
Но Микоян – отдать ему должное – подтвердил:
– Да, я дал распоряжение.
Исполнительный Щербаков спешил претворить в жизнь все указания вождя. Но
ситуация быстро менялась, и он мог оказаться в неудачном положении. Александр Сергеевич
распорядился раздать москвичам еще и хранившиеся на складе полмиллиона пар обуви, ушанки и перчатки. Начальник управления тыла генерал-лейтенант интендантской службы
Андрей Васильевич Хрулев отказался это сделать. Щербаков сказал ему угрожающе:
– Вы, видимо, хотите оставить все вещи немцам…
Но опытный генерал Хрулев не испугался, а обратился к Микояну, который в
Государственном Комитете Обороны ведал снабжением и фронта, и тыла. Тот приказал вещи
не раздавать. Щербакову пришлось отменить свое указание. Анастас Иванович был членом
политбюро. А он – всего лишь кандидатом.
Историки считают Александра Сергеевича чуть ли не самым исполнительным
помощником Сталина, готовым в лепешку расшибиться, лишь бы исполнить указание вождя.
Если многие его коллеги были исполнительными карьеристами, то Щербаков подчинялся
вождю искренне. Но вознесенный на вершину партийной власти недавно, он чувствовал себя
неуверенно, перед Сталиным стоял чуть ли не навытяжку. Возражать не смел. Ставить
серьезные вопросы не решался. А вдруг не угадал настроение, спросил то, что не следовало
бы? Как выразился один из его подчиненных, Сталин на чувстве страха играл лучше, чем
Паганини на скрипке. Как он давал задания? Или сроки были нереальными, или приказ был
отдан так, что как ни выполни, все равно будешь виноват.
В те октябрьские дни, когда решалась судьба Москвы и действительно нужны были
воля и твердость, когда люди хотели видеть во главе города уверенного в себе человека, Александр Сергеевич Щербаков не смел и не умел проявить инициативу, навести порядок в
городе без команды вождя.
Взаимоотношения партийного аппарата и других органов управления изменились. В
принципе все наркоматы и ведомства обязаны были постоянно отчитываться перед
партийным аппаратом и на все просить согласия. В реальности все зависело отличных
качеств того или иного руководителя.
Скажем, самоуверенный нарком внутренних дел запросто отдавал распоряжения
московским партийным секретарям. 1 июля 1941 года нарком внутренних дел генеральный
комиссар государственной безопасности Лаврентий Павлович Берия отправил телеграмму
второму секретарю Московского обкома Борису Николаевичу Черноусову как своему
подчиненному:
«Предлагаю под вашу личную ответственность обеспечить немедленное выполнение
9
наряда Генштаба Красной армии о поставке конского состава обоза с упряжью на
укомплектование формируемой дивизии НКВД.
Мероприятие это большой важности, и вы обязаны принять все меры к выполнению и
быстрому их продвижению в пункты формирования соединений с расчетом прибытия не
позднее 15 июля.
Исполнение донесите».
16 июля Черноусов дисциплинированно телеграфировал Берии:
«Московская область наряд Генштаба Красной армии о поставке конского состава и
обоза с упряжью на укомплектование формируемой дивизии НКВД выполнила.
Сдано воинской части 2880 лошадей и 875 повозок».
А вот обком партии обращался в наркоматы с просительной интонацией. 14 августа тот
же Черноусов писал наркому путей сообщения Лазарю Моисеевичу Кагановичу:
«Ввиду создавшегося напряженного положения со снабжением населения области
хлебом из-за неподачи вагонов (отгружено за 18 дней августа всего лишь 3400 тонн при
плане 62 000 тонн), – МК ВКП(б) просит Вас дать указание о предоставлении 1718 вагонов
под погрузну муки со станций отправления».
Для придания веса такого рода обращениям под ними ставили подпись самого
Александра Щербакова. 19 сентября хозяин Москвы обратился за помощью к заместителю
наркома путей сообщения:
«Для обеспечения снабжения Красной армии и населения гор. Москвы мылом
необходимо для мыловаренных заводов гор. Москвы завести в сентябре месяце 210 цистерн.
МГК ВКП(б) просит Вас предоставить цистерны для отправки в гор. Москву… Цистерны
должны быть адресованы заводу «Новый мыловар» – станция Бойня Московской окружной
железной дороги».
Горком партии в принципе считался хозяином Москвы. Но рядом существовал
могущественный ЦК, и это ограничивало возможности городской власти. Во главе
некоторых наркоматов стояли члены политбюро и Государственного Комитета Обороны, и
горком не смел вмешиваться в их дела.
В первый военный год Московский комитет партии превратился в инструмент
мобилизации народа и прямого управления промышленностью. Об этом свидетельствует
отраслевое распределение обязанностей секретарей обкома и горкома:
– по строительству и городскому хозяйству;
– по текстильной и легкой промышленности;
– по топливно-энергетической промышленности;
– по машиностроению;
– по оборонной промышленности;
– по местной промышленности и промкооперации.
Чем, скажем, занимался секретарь МГК по местной промышленности? Выполнял
задание обеспечить выпуск сумок для бутылок с зажигательными смесями. Они
изготавливались на предприятиях местной промышленности, промысловой кооперации и
кооперации инвалидов.
Аппарат жил своей жизнью. Отдел машиностроения горкома 21 сентября разделили на
два – отдел среднего и тяжелого машиностроения и отдел станкостроения и общего
машиностроения. Зато отдел строительства и стройматериалов 25 сентября объединили с
отделом городского хозяйства в отдел строительства и городского хозяйства. А 10 ноября
отдел пищевой промышленности и отдел торговли объединили в единый отдел пищевой
промышленности и торговли…
Горком поправлял нижестоящих чиновников, нарушавших правила аппаратной жизни.
На пленуме Дзержинского райкома партии избрали в состав бюро заместителя заведующего
отделом кадров. Но чиновник не был членом райкома. И решение Дзержинского райкома
отменили – «как противоречащее внутрипартийной демократии».
С началом войны сократился объем даже той скудной информации о решениях высшей
10
власти, которая поступала в нижние звенья аппарата. Нижестоящие партийные комитеты
получали помеченные грифом «Секретно» документы высших органов власти, и это
позволяло хотя бы в какой-то степени понимать, что происходит в стране. В июле 1941 года
секретариат ЦК решил, что отныне протоколы заседаний бюро и пленумов обкомов и
крайкомов в полном объеме вообще не будут рассылаться в райкомы и горкомы. Они
получали только «те решения или отдельные пункты решений, которые имеют к ним
непосредственное отношение и выполнение которых им поручено».
Райком партии отвечал за все, что происходило на территории района: от положения
дел на предприятиях и уровня преступности – до состояния тротуаров и дорог, работы
магазинов и поликлиник. Впрочем, хозяйственной работой непосредственно занимался
райисполком, за его работой следил первый секретарь райкома.
Райком контролировал работу партийных организаций района. Ведал подбором
номенклатурных работников – то есть тех, кто назначался и смещался с должности по
решению райкома. Принимал в партию, проводил агитационные кампании в районе, готовил
пропагандистов и агитаторов. Но прежде всего отвечал за то, чтобы предприятия района
выполняли государственный план.
На пленуме обкома партии Щербаков говорил:
– Во второй половине октября в связи с эвакуацией и крупными недостатками в ее
проведении партийная работа резко ослабла, а в ряде случаев была прямо дезорганизована.
Партийных собраний в целом ряде случаев не проводили. Кадры агитаторов растеряли.
Прекратили проводить беседы и доклады, читки газет. Забросили социалистическое
соревнование. Агитаторы и коммунисты бездействовали, а враждебные элементы, пользуясь
этой обстановкой, начали кое-где проводить свою антисоветскую агитацию… Особенно
плохо поставлена наша партийная и агитационная работа в деревне. В колхозе имени
Тельмана в Раменском районе больше двух месяцев не оформлена партийная группа.
Коммунисты в течение этого времени ни разу не собирались на партийное собрание.
Агитаторы в этом колхозе вот уже два месяца не были в бригадах, к которым они
прикреплены… У нас слаб приток в партию. Подольский и Раменский горкомы в октябре и
ноябре в ряды партии не приняли ни одного человека…
На пленуме горкома руководитель столичного комсомола Анатолий Михайлович Пегов
жаловался на старших товарищей:
– Комсомольская организация собрала более двадцати тысяч пар лыж, но нехорошие
вещи получаются. Доватор пишет нам в горком: «Дайте триста пар лыж, необходимых для
боевых действий». Мы связались с горкомом партии. Лыжи лежали на базах. И до сих пор
они там лежат. А на фронте они до зарезу нужны.
Генерал-майор Лев Михайлович Доватор командовал кавалерийским корпусом. Он
станет Героем Советского Союза и погибнет в битве за Москву.
– Вообще говоря, запас должен быть, – заметил комсомольскому секретарю из
президиума Георгий Попов.
– Но когда лыжи нужны фронту, – возразил Анатолий Пегов, – надо это делать
быстрее.
– Маленькая поправка, – сказал руководитель военного отдела горкома партии
Александр Иванович Чугунов, – собрано лыж не двадцать тысяч, а двенадцать тысяч
восемьсот.
– Может быть, – легко согласился Пегов, – но мне сведения дают комсомольские
организации, и по этим сведениям собрано двадцать тысяч пар… Распорядительности нет в
этом деле. Скажу о подготовке разведчиков. Мы их готовим по районам. Товарищи делают
замечательные дела. Мы отобрали лучших разведчиков. Но в областном управлении НКВД
(начальник – товарищ Журавлев) нет достаточной поворотливости. Мы подготовили людей, а их у нас не берут. Товарищ Журавлев, надо пооперативнее работать…
Комсомольская жизнь шла обычным руслом – придумывали все новые почины, хотя
казалось бы, реальных дел хоть отбавляй.
11
– Мы начали сталинскую вахту – после доклада товарища Сталина, – с
воодушевлением рассказал Пегов. – Объявили комсомольцам, что они, встав на вахту, должны перевыполнять план. Молодежь берет на себя обязательство выполнять до
окончания войны по две-три нормы. Надо им помочь. А нам звонят: «Какие были указания
по этому поводу?» Ну, какие же должны быть указания?!
– А не оказывается на деле так, что молодежь призывают встать на вахту, – резонно
заметил один из участников пленума, – а в результате оказывается – мыльный пузырь?..
В аппарате превыше всего ценились дисциплина и послушание. Как делались карьеры в
то время? Власть подбирала себе серых, не очень образованных, безынициативных, но
удобных исполнителей. На нижних этажах еще встречались подготовленные профессионалы.
Чем выше по номенклатурной лестнице, тем ниже уровень компетентности. В октябрьские
дни сорок первого это стало очевидным.
Задолго до появления немецких войск у Москвы, 25 августа, второй секретарь
Московского обкома партии Борис Николаевич Черноусов обратился к заместителю наркома
обороны СССР Ефиму Афанасьевичу Щаденко:
«Московский областной комитет ВКП(б) просит отпустить три тысячи пистолетов
иностранного образца с патронами, находящихся на базе № 36 главного артиллерийского
управления, для вооружения партийного актива Московской области».
Но в эти октябрьские дни начальство вовсе не собиралось отстреливаться до
последнего, а действовало по принципу «спасайся кто может». Многие руководители, загрузив служебные машины вещами и продуктами, пробивались через контрольные пункты
или объезжали их и устремлялись на Рязанское и Егорьевское шоссе. Все остальные пути из
Москвы или уже были перекрыты немецкими войсками, или обстреливались. По Рязанскому
шоссе шли толпы. Начался исход из Москвы…
Облик города, оставленного властью, зараженного страхом и безнадежностью, мгновенно изменился. Это была уже другая Москва, где не действовали прежние законы и
правила.
Журналист Николай Константинович Вержбицкий записал в дневнике:
«16 октября. Грузовик, облепленный грязью, с каким-то военным барахлом, стоит на
тротуаре. К телефонной будке на улице привязаны две лошади. Рядом военная телега, пустая, кругом конский навоз. Убирать некому.
Тянутся один за другим со скрежетом и визгом тракторы, волокут за собой какие-то
повозки, крытые защитным брезентом. Шагают красноармейцы с темными лицами, с
глазами, в которых усталость и недоумение. Кажется, что им неизвестно, куда они
направляются. У магазинов огромные очереди, в магазинах сплошной бабий крик.
Объявление: «Выдают все товары по всем талонам за весь месяц». Много грузовиков с
эвакуированными: мешки, чемоданы, ящики, подушки, люди с поднятыми воротниками, закутанные в платки».
Военный госпиталь, в котором служил хирург Николай Михайлович Амосов – будущая
знаменитость, академик, Герой Социалистического Труда и лауреат Ленинской премии
утром 16 октября через Калужскую Заставу въехал в Москву:
«При входе в город встретили батальон ополчения, идущий защищать столицу, длинная колонна пожилых мужчин. Идут не в ногу. В последнем ряду шагают сестрички…
Магазины закрыты. Жалюзи спущены на витрины. Народ суетится возле домов. Связывают
пожитки, укладываются на тачки, на детские коляски. Кое-где грузятся машины, выносят из
квартир даже мебель. Около стоят женщины и смотрят с завистью: «Небось, начальники
бегут».
«Ранним утром 16 октября, – вспоминал один из московских партийных работников, –
я направился в отделение Рижской железной дороги для уточнения перемен за ночь на
линейном участке, где железнодорожники-путейцы должны были разобрать пути от станций
Новый Иерусалим и Истра.
Картина, которую я увидел, поразила меня. По бульварному кольцу к Ярославскому
12
шоссе двигалась масса людей, нагруженных скарбом. Некоторые волокли тележки, детские
коляски, наполненные вещами. Люди торопились уйти из Москвы. В воздухе клубился пепел
от сожженных бумаг. Одна женщина, узнавшая меня, доверительно спросила:
– А правду говорят, что товарищ Сталин уехал из Москвы?
Я объяснил, что это провокационные слухи, чтобы вызвать панику»…
Во власти толпы
Горожане видели, что начальники грузят свое имущество, берут семьи и бегут. Все
пришли к выводу, что Москву не сегодня-завтра сдадут. Приказ об эвакуации спровоцировал
панику.
В Москве не топили, обещали начать отопительный сезон с 15 декабря. Кто не уехал, мерз. Закрылись поликлиники и аптеки.
Самым тревожным было полное отсутствие информации. Власть, занятая собственным
спасением, забыла о своем народе.
«Бодрый старик на улице спрашивает:
– Ну почему никто из них не выступил по радио? Пусть бы сказал хоть что-нибудь…
Худо ли, хорошо ли – все равно… А то мы совсем в тумане, и каждый думает по-своему».
Через шесть десятилетий обозреватель «Комсомольской правды» Леонид Репин
вспоминал:
«16 октября 1941 года я был еще маленьким. Я помню внезапно, страшно
обезлюдевший город. На Люсиновке, по которой мы с матерью шли в сторону Даниловского
универмага, люди отчего-то встречались редко, и все очень быстро, обгоняя нас, шли или
бежали. Изредка проезжали машины, громыхая и дребезжа по булыжной мостовой. Я не
знал, куда и зачем меня мать вела, но скоро мы оказались внутри Даниловского универмага.
Он был совершенно пустым. Только две женщины торопливо разбирали витрины, уставленные всякой посудой и вазами с бумажными цветами. Мать подошла к ним и о
чем-то поговорила. Одна из женщин кивнула. Мать достала из сумочки деньги и отдала их
женщинам. Потом взяла с витрины небольшую фарфоровую вазу в поперечных красных
полосах, и мы пошли домой. Мама сказала мне, что давно мечтала об этой вазе и даже
ходила не раз смотреть, не купил ли ее кто-нибудь.
Потом, спустя много лет, я понял, что она купила вазу в полной растерянности: не
знала, что делать, когда вокруг все бегут. Нам-то бежать было некуда».
«Улица Горького была совершенно пуста, а в Столешниковом полно народу, и все
чем-то в спешке торгуют с рук, – рассказывала В.О. Берзина, в ту пору машинистка
проектного института «Гипрохолод». – В основном пытались продать ювелирные изделия, всякий антиквариат, редкие книги… Отдавали почти даром, но я не видела, чтобы
кто-нибудь что-то купил. Не знаю зачем, но я купила маленькую фигурку собачки из
датского фарфора. Мне стало жалко древнюю старушку, которая ее продавала…»
А.И. Епифанская работала в детской библиотеке Л.Н. Толстого на Большой Полянке:
«Библиотека была открыта, но никто, конечно, не заходил. Я сидела одна и глядела в
окно. Неподалеку от нас находились продуктовые склады магазинов, и я хорошо видела, что
их двери были открыты. Люди выходили, нагруженные продуктами. Я тоже пошла
посмотреть. Оказалось, что продукты раздавали совершенно бесплатно! Всем желающим!
Мне достались консервы – гречневая каша с тушеным мясом. Их надолго хватило!»
Будущий писатель Даниил Данин вышел из окружения и поздно вечером 15 октября
добрался до станции в Наро-Фоминске.
«Сел в последний поезд, шедший без огней, и затемно, в шесть утра приехал в Москву.
Метро не работало – то ли «еще», то ли «уже». В слякотно-снежных предрассветных
сумерках я пер от Киевского к Земляному Валу пешком в разбитых фронтовых ботинках. По
раннему часу дозвонился до брата Гриши. Он сказал, что их «Шарикоподшипник»
эвакуируют в Куйбышев.
13
Часов в девять-десять утра пошел на Черкасский – в Гослитиздат, где были тогда
редакции «Знамени» и «Красной нови». По дороге на Маросейке побрился в пустой
парикмахерской, вышел, не заплатив, и мастер не остановил меня, а уже в Гослите, доставая
носовой платок, обнаружил в кармане белую салфетку из парикмахерской. Вот такая была
всеотчужденность, такой лунатизм. В Гослите было пусто, и все двери стояли настежь. На
третьем этаже бродила по коридору женщина с толстой папкой в руках. Узнала меня, ни о
чем не спрашивая, протянула тяжелую для ее рук папку, сказала, что это рукопись перевода
«По ком звонит колокол», сказала, что не может уйти, пока не препоручит кому-нибудь эту
рукопись, просила меня спасти ее. Это была тихо-безумная Сабадаш – завредакцией
«Знамени». Весь день 16-го искал с кем бы встретиться, но телефоны молчали»…
Когда мы говорим об эвакуации из города, не должно быть поколенческого
высокомерия – что же вы сплоховали и сбежали, Москву-то не взяли? Тогда никто не знал
исхода битвы за город. Естественно, что очень многие москвичи не хотели оказаться под
немцем, поэтому они и покинули город. В этом нет ничего предосудительного. А для кого-то
это было смертельно опасно – для партийных работников, чекистов и их семей, для евреев.
Эвакуированные евреи стали поводом для насмешек и ненависти. Но им никак нельзя было
оставаться в оккупации. Это был народ, который немцы обещали уничтожить полностью –
до последнего человека.
Например, из 93 тысяч латвийских евреев в сорок первом успели уйти не более 19
тысяч. Все оставшиеся были убиты немецкими войсками и их латышскими пособниками.
Эвакуировались женщины, дети, старики – сражаться они не могли. А мужчины
сражались в Красной армии. Вообще говоря, евреи-фронтовики могли считать себя
несправедливо обойденными вниманием. Ведь по числу награжденных боевыми орденами и
медалями среди народов Советского Союза евреи (малочисленная этническая группа) находились на четвертом месте – после русских, украинцев и белорусов…
Летом сорок первого Красная армия оставляла города, не предупредив население, и
люди оказывались во власти оккупантов. Кто успел бежать – без вещей, денег и документов
– спас себе жизнь. И сразу же выявился классовый, клановый характер советского общества.
Когда простые граждане брели из оставляемого войсками города пешком, семьи начальства
вывозились на автотранспорте и поездах с относительным комфортом.
Александр Александрович Фадеев запечатлел эту картину бегства в первой редакции
романа «Молодая гвардия» – до того, как Сталин заставил его переписать книгу. Есть и
документальные свидетельства.
Командование Западного фронта докладывало в Ставку о нераспорядительности
командиров частей, озабоченных вовсе не боевыми делами:
«Огромная масса машин занята эвакуацией семей начальствующего состава, которых к
тому же сопровождают красноармейцы, то есть люди боевого расчета».
Никто не вправе упрекнуть людей, спасавшихся от безжалостного врага, – раз уж их
собственные государство и армия не в силах их защитить. Но партийные и государственные
чиновники и руководители государственных предприятий (других не было) не имели права –
в военное время – бежать, бросив своих подчиненных на произвол судьбы. А именно так они
и поступали.
«Придя утром на завод, – вспоминал один москвич, – обнаружили отсутствие
руководства: оно уже уехало. Поднялся шум. Рабочие направились в бухгалтерию за
расчетом: по закону нам было положено выплатить двухмесячный заработок. Кассира нет.
Начальства нет. Никого нет. Начались волнения. Стены легких фанерных перегородок в
бухгалтерии трещат под напором людей. Наконец часам к двум выяснилось, что деньги
сейчас будут выданы. Нам предложено, кто пожелает, следовать в Ташкент, по возможности
самостоятельно…
Шоссе Энтузиастов заполнилось бегущими людьми. Шум, крик, гам. Люди двинулись
на восток, в сторону города Горького. Застава Ильича. Отсюда начинается шоссе
Энтузиастов. По площади летают листы и обрывки бумаги, мусор, пахнет гарью. Какие-то
14
люди то там, то здесь останавливают направляющиеся к шоссе автомашины. Стаскивают
ехавших, бьют их, сбрасывают вещи, расшвыривая их по земле. Раздаются возгласы: бей
евреев!.. Никогда я бы не поверил такому рассказу, если бы не видел этого сам…»
Лев Ларский скоро уйдет на фронт, после войны станет художником. А осенью сорок
первого он еще учился в десятом классе 407-й московской школы. Утром 16 октября он
оказался на шоссе Энтузиастов:
«Я стоял у шоссе, которое когда-то называлось Владимирским трактом. По знаменитой
Владимирке при царизме гоняли в Сибирь на каторгу революционеров – это мы проходили
по истории. Теперь революционеры-большевики сами по нему бежали на восток – из
Москвы. В потоке машин, несшемся от Заставы Ильича, я видел заграничные лимузины с
«кремлевскими» сигнальными рожками: это удирало Большое Партийное начальство! По
машинам я сразу определял, какое начальство драпает: самое высокое – в заграничных, пониже – в наших эмках, более мелкое – в старых газиках, самое мелкое – в автобусах, в
машинах «скорая помощь», «Мясо», «Хлеб», «Московские котлеты», в «черных воронах», в
грузовиках, в пожарных машинах…
А рядовые партийцы бежали пешком по тротуарам, обочинам и трамвайным путям, таща чемоданы, узлы, авоськи и увлекая личным примером беспартийных…
Я стоял у моста при пересечении Казанской железной дороги с шоссе Энтузиастов. В
потоке беженцев уже все смешалось: люди, автомобили, телеги, трактора, коровы – стада из
пригородных колхозов гнали!.. В три часа на мосту произошел затор. Началась страшная
давка… Вместо того чтобы спихнуть с моста застрявшие грузовики и ликвидировать пробку, все первым делом бросались захватывать на них места. Форменный бой шел: те, кто сидел на
грузовиках, отчаянно отбивались от нападавших, били их чемоданами прямо по головам…
Атакующие лезли друг на друга, врывались в кузова и выбрасывали оттуда
оборонявшихся, как мешки с картошкой. Но только захватчики успевали усесться, только
машины пытались тронуться, как на них снова бросалась следующая волна… Ей-богу, попав
впоследствии на фронт, я такого отчаянного массового героизма не наблюдал…»
Во второй половине дня в городе начался хаос. Разбивали витрины магазинов, вскрывали двери складов. Тащили все под лозунгом: не оставлять же добро немцам. Анархия
неминуема там, где нет власти. Но, вообще говоря, в Москве власть не менялась. Сколько бы
чиновников ни сбежало, оставалось еще предостаточно. В городе полно было чекистов, милиции, войск. Но никто ни во что не вмешивался.
Система выдвигала и воспитывала таких людей, которые не были способны ни на
инициативу, ни на самостоятельность – за то и другое вождь мог сурово наказать…
Излишняя централизация управления, когда высшее начальство руководило каждым шагом
подчиненных, лишала привычки принимать решения. Все надо было согласовывать с
руководством, любая самостоятельность могла обернуться начальственным недовольством.
Из отчета Московской городской организации ВЛКСМ О Событиях 1 6 октября:
«Удивительное творится в райкоме партии, в райсовете: все с узлами, чемоданами, считают деньги, упаковывают продукты, прощаются, уезжают на вокзал. Противно.
Тревожно…
В райкоме сногсшибательные факты как прямое следствие паники. У хлебного киоска
на Трубной площади давка, хулиганство – ломают киоск. Рабочие молокозавода задержали
директора с молочными продуктами. Продукты и машину отняли, директора окунули
головой в бочку со сметаной…
Вот Крестьянская Застава. Десятки тысяч народу. Машины стоят и движутся. Давка.
Сотни милиционеров не в состоянии навести порядок, с ними расправляются, как с
мальчишками. В одно мгновение и милиционера стащили с лошади. Вот мчится ма шина, сигналит. Публика преграждает путь, останавливает машину, вытаскивает шофера, выбрасывает вещи».
О ситуации в городе лучше всех знал начальник Московского управления Наркомата
внутренних дел старший майор госбезопасности Михаил Иванович Журавлев.
15
В прошлом он был партийным работником. Начинал секретарем парткома
рыбокоптильного завода в Ленинграде. В январе 1939 года с должности второго секретаря
одного из ленинградских райкомов его взяли на месячные курсы подготовки руководящего
состава НКВД. Через четыре недели Журавлев получил специальное звание капитана
госбезопасности и пост наркома внутренних дел Коми АССР. В феврале 1941 года возглавил
московское управление НКВД. Когда в июле объединили Наркоматы внутренних дел и
госбезопасности, Журавлев стал начальником единого столичного управления…
Журавлев докладывал своему начальству в наркомате:
«16 октября 1941 года во дворе завода «Точизмеритель» имени Молотова в ожидании
зарплаты находилось большое количество рабочих. Увидев автомашины, груженные
личными вещами работников Наркомата авиационной промышленности, толпа окружила их
и стала растаскивать вещи. Разъяснения находившегося на заводе оперработника
Молотовского райотдела НКВД Ныркова рабочих не удовлетворили. Ныркову и директору
завода рабочие угрожали расправой…
Группа лиц из числа рабочих завода № 219 (Балашихинский район) напала на
проезжавшие по шоссе Энтузиастов автомашины с эвакуированными из города Москвы и
начала захватывать вещи эвакуированных. Группой было свалено в овраг шесть легковых
автомашин.
В рабочем поселке этого завода имеют место беспорядки, вызванные неправильными
действиями администрации и нехваткой денежных знаков для выплаты зарплаты. Помощник
директора завода по найму и увольнению, нагрузив автомашину большим количеством
продуктов питания, пытался уехать с заводской территории. Однако по пути был задержан и
избит рабочими завода.
Бойцы вахтерской охраны завода напились пьяными…
На Ногинском заводе № 12 группа рабочих напала на ответственных работников
одного из главков Наркомата боеприпасов, ехавших из города Москвы по эвакуации, избила
их и разграбила вещи…
Группа грузчиков и шоферов, оставленных для сбора остатков имущества
эвакуированного завода № 230, взломала замки складов и похитила спирт. Силами
оперсостава грабеж был приостановлен…
Директор фабрики «Рот Фронт» (Кировский район города Москвы) Бузанов разрешил
выдать рабочим имевшиеся на фабрике печенье и конфеты. Во время раздачи печенья и
конфет между отдельными пьяными рабочими произошла драка. По прибытии на место
работников милиции порядок был восстановлен».
Толпа, которая останавливала и грабила машины, становилась все более опасной.
Писатель Аркадий Алексеевич Первенцев тоже пытался уехать из города вместе с женой. Он
был писателем более чем процветающим, имел собственную машину с шофером.
«Двухметрового роста, загорелый, красивый, веселый», – таким его увидел коллега по
писательскому цеху.
Но дорогу перекрыла огромная толпа:
«Несколько человек бросились на подножки, на крышу, застучали кулаками по стеклу.
Под ударами кулаком рассыпалось и вылетело стекло возле шофера. Машину схватили
десятки рук и сволокли на обочину, какой-то человек поднял капот и начал рвать
электропроводку. Десятки рук потянулись в машину и вытащили жену.
Красноармейцы пытались оттеснить толпу, но ничего не получилось. Толпа кричала, шумела и приготовилась к расправе. Я знаю нашу русскую толпу. Эти люди, подогретые
соответствующими лозунгами 1917 года, растащили имения, убили помещиков, бросили
фронт, убили офицеров, разгромили винные склады… Это ужасная толпа предместий наших
столиц, босяки, скрытые двадцать лет под фиговым листком профсоюзов и комсомола.
Армия, защищавшая шоссе, была беспомощна. Милиция умыла руки. Я видел, как грабили
машины, и во мне поднялось огромное чувство ненависти к этой стихии.
– Небось, деньги везешь, а нас бросили голодными! – заорали голоса. – Небось,
16
директор, сволочь. Ишь, какой воротник!
Я посмотрел на их разъяренные, страшные лица, на провалившиеся щеки, на черные
засаленные пальто и рваные башмаки, и вдруг увидел страшную пропасть, разъединявшую
нас, сегодняшних бар, и этих пролетариев. Они видели во мне барина, лучше жившего во
времена трагического напряжения сил при всех невзгодах пятилеток и сейчас позорно
бросающего их на произвол судьбы».
Советский человек превратился вовсе не в носителя высокой морали, самоотверженного и бескорыстного труженика. Жизньтолкала его в противоположном
направлении. О революционных идеалах твердили с утра до вечера. Но люди видели, что
никакого равенства нет и в помине.
Аркадий Первенцев показал документы. Настроение толпы изменилось. Его, как
писателя, пропустили. Украли, правда, пиджак и теплые унты на волчьем меху, об утрате
которых он будет потом сильно сожалеть.
«Мимо меня прошел мрачный гражданин в кепке и сказал, не поднимая глаз:
– Товарищ Первенцев, мы ищем и бьем жидов.
Он сказал это тоном заговорщика-вербовщика. Это был представитель воскресшей
«черной сотни». История повторялась. Нас усадили в машину и расчистили нам путь с
криками: «пропустить писателя, мы его знаем».
Первенцев благополучно уехал. А вошедшая во вкус толпа бросилась грабить
очередной правительственный автомобиль ЗИС-101:
«Из него летели носовые платки, десятки пар носков и чулок, десятки пачек папирос.
ЗИС увозил жирного человека из каких-то государственных деятелей, его жену в
каракулевом саке и с черно-бурой лисой на плечах. Он вывозил целый магазин. Из машины
вылетел хлеб и упал на дорогу. Какой-то человек в пальто прыгнул к этому хлебу, поднял его
и начал уписывать за обе щеки…»
А вот Андрей Николаевич Островцев, главный конструктор Московского
автомобильного завода имени Коммунистического Интернационала и будущий конструктор
правительственного лимузина ЗИС-110, никуда не уезжал. Напротив, он пытался с семьей
вернуться в столицу. Его дочь вспоминала:
«В самый разгар паники в Москве, 16 октября, папа повез нас с дачи на машине в
Москву. Когда машина остановилась на узком шоссе, потому что оно все было забито
бегущими из Москвы, то к нам подошли подозрительные мужики и хотели нас выкинуть из
машины. В этот момент папа нажал на газ, и машина рванула по обочине в Москву».
Взорвать город!
Сталин распорядился подготовить к взрыву основные промышленные предприятия и
другие важнейшие объекты города. Еще 8 октября он подписал Постановление
Государственного Комитета Обороны «О проведении специальных мероприятий по
предприятиям г. Москвы и Московской области»:
«В связи с создавшейся военной обстановкой Государственный Комитет Обороны
постановляет:
1. Для проведения специальных мероприятий по предприятиям города Москвы и
Московской области организовать пятерку в составе: 1) заместителя наркома внутренних дел СССР т. Серова (руководитель); 2) начальника Московского управления НКВД т. Журавлева; 3) секретаря МГК ВКП(б) т. Попова;
4) секретаря МК ВКП(б) т. Черноусова;
5) начальника Главного военно-инженерного управления Наркомата обороны т.
Котляра.
2. Создать в районах г. Москвы и Московской области тройки в составе: Первого секретаря райкома ВКП(б) (руководитель), начальника райотдела НКВД и
17
представителей инженерных частей Красной армии.
3. Обязать комиссию в однодневный срок определить и представить Государственному
Комитету Обороны список предприятий, на которых должны быть проведены специальные
мероприятия.
Разработать порядок, обеспечивающий выполнение этих мероприятий, выделить
исполнителей и обеспечить предприятия необходимыми материалами.
4. Поручить пятерке тщательно проверить исполнителей и организовать их
соответствующую техническую подготовку.
5. Комиссии наладить надлежащую связь с районными тройками и оповещение их о
начале действий».
Подготовка к взрывам велась в абсолютном секрете. Поэтому руководителем пятерки
назначили комиссара госбезопасности 3-го ранга Ивана Александровича Серова. По
распределению обязанностей в Наркомате внутренних дел Серов курировал милицию, пожарную охрану, тюремное управление, штаб истребительных батальонов и управление по
делам о военнопленных и интернированных.
В дни обороны Москвы Иван Серов командовал войсками НКВД московской зоны, в
частности, занимался очищением столицы от преступного элемента.
9 октября Серов представил Сталину список из тысячи ста девятнадцати предприятий
города и области, которые предполагалось вывести из строя. Предприятия военного значения
намеревались взорвать, остальные ликвидировать «путем механической порчи и поджога».
10 октября взрывчатые вещества были доставлены на предприятия, подлежащие
уничтожению. Взрывные команды в ожидании приказа приступили к тренировкам.
Главный инженер старейшего в Москве хлопчатобумажного комбината «Трехгорная
мануфактура» вспоминал:
«Мы поджигали шнур и за время его сгорания должны были пробежать определенную
дистанцию… Каждому исполнителю полагалось для проведения этой операции по пять
секунд на четыре точки… Он должен был выйти из цеха через двадцать секунд, иначе
погибнет… Этой тренировкой я достиг такого положения, что на пятом этаже люди успевали
сделать свое дело и выскочить в окно…»
Уничтожению подлежали не только заводы оборонной промышленности, но и
хлебозаводы, холодильники, мясокомбинаты, вокзалы, трамвайные и троллейбусные парки, мосты, электростанции, а также здания ТАСС, Центрального телеграфа и телефонные
станции… Иначе говоря, жизнь в городе должна была стать невозможной. Не сложно
представить себе, что произошло бы с горожанами, если бы вслед за приходом немцев они
бы еще и лишились водопровода с канализацией.
– В октябре, в самые трудные дни боев под Москвой, – вспоминал маршал Георгий
Константинович Жуков, – из Кремля валом шли различные запросы и часто не
соответствующие обстановке указания Сталина. О том, что Верховный главнокомандующий
находился в шоковом состоянии, можно судить хотя бы по постановлению ГКО об
эвакуации столицы. По этому документу в случае появления войск противника у ворот
Москвы Берия должен был взорвать свыше тысячи объектов в столице… К современной
войне Сталин не был подготовлен, а отсюда и растерянность, и неумение оценить
обстановку, и грубейшие просчеты и ошибки…
Сталин справедливо предполагал, что если о плане взорвать город станет известно
москвичам, они могут помешать подрывникам. Поэтому саперные работы велись секретно.
Практической подготовкой к взрывам занимались московские чекисты под руководством
начальника столичного управления НКВД старшего майора госбезопасности Михаила
Журавлева.
20 октября Журавлев инструктировал своих подчиненных:
«Сов. секретно
Только лично
Начальнику РО НКВД Московской области
18
Прилагая при этом список предприятий Вашего района, предлагаю
обеспечить на них подготовку спецмероприя-тий, сосредоточив на этой работе
основное внимание.
По предприятиям, не включенным в данный список, подготовку к
спецмероприятиям не проводить, а имеющиеся на них взрывчатые вещества
немедленно изъять и передать на хранение по указанию районной тройки.
Одновременно отмечаю, что райотделы НКВД, проводя подготовку к
спецмероприятиям, не уделяют достаточного внимания агентурно-оперативной
работе, не ведут должной борьбы с различного рода антисоветскими
проявлениями, слабо выявляют и изымают контрреволюционный элемент…»
Из Наркомата внутренних дел по аппарату правительственной связи позвонили
Александру Александровичу Ветрову, заместителю наркома электротехнической
промышленности, руководившему оборонными предприятиями отрасли, и без объяснения
причин предложили немедленно явиться на Лубянку. Вызов в НКВД мог означать все что
угодно, в том числе и худшее – арест. Прихватив с собой чемоданчик с бельем, заместитель
наркома отправился на расположенную вблизи площадь.
В особом отделе чекист с двумя ромбами на петлицах (старший майор
госбезопасности) сообщил Ветрову:
– Москва находится в угрожающем положении. В случае ее оставления нашими
войсками должны быть уничтожены наиболее жизненно важные ее сооружения. На
намеченных к уничтожению важнейших государственных объектах подготовлены
специальные команды подрывников. Вы должны срочно проверить готовность таких команд, расположенных в доме правительства, гостиницах «Москва» и «Метрополь», к взрывным
работам…
В небольшом подвальном помещении гостиницы «Москва», из которого в разные
стороны тянулись электропровода, заместителя наркома встретил седой угрюмого вида
капитан. В его распоряжении были три минера-под-рывника и молоденькая санитарка.
Капитан предъявил чертежи подвальных помещений гостиницы «Москва» со схемой
основных несущих конструкций, к которым были пристроены мощные заряды.
«Мы с капитаном обошли места минирования, – вспоминал замнаркома Ветров. –
Убедившись в надежной подготовке этого огромного здания к намеченным экстремальным
действиям, я об этом доложил по команде и, перейдя улицу, проник в подвальное помещение
дома правительства.
В течение дня мною была проверена готовность минноподрывных команд на пяти
объектах центра столицы».
Александр Александрович Ветров, кадровый военный, участник войны в Испании, вскоре ушел на фронт, воевал в 15-м танковом корпусе, дослужился до погон
генерал-лейтенанта.
Через много лет, в июле 2005 года, разбирая фундамент старого здания гостиницы
«Москва», рабочие найдут около тонны тротила. Уже не было ни детонаторов, ничего
другого, чтобы привести взрывчатку в действие. За это время она разложилась и перестала
быть опасной. Но если бы постояльцы знали, что ночуют на грузе тротила, едва ли им сладко
спалось бы в «Москве»…
А тогда, в октябре сорок первого, рабочие все-таки увидели, что предприятия готовят к
уничтожению. 16 октября информация о том, что заводы заминированы и могут быть
взорваны в любую минуту, подбавила масла в огонь.
Журавлев докладывал в Наркомат внутренних дел:
«На заводе № 8 около тысячи рабочих пытались проникнуть во двор. Отдельные лица
при этом вели резкую контрреволюционную агитацию и требовали разминировать завод.
Отправлявшийся с завода эшелон с семьями эвакуированных разграблен.
В связи с тем, что на заводе № 58 не была выдана зарплата, рабочие ходили толпами, требуя денег. Со стороны отдельных рабочих имели место выкрики: «Бей коммунистов»
19
и др. Рабочие были впущены в минированные цеха для получения зарплаты. Узнав, что они
находятся в минированных цехах, рабочие подняли скандал. Завод получил от
Ростокинского райкома ВКП(б) распоряжение продолжить работу, но большинство рабочих
в цехах не осталось».
16 октября утром наркому авиационной промышленности Алексею Ивановичу
Шахурину позвонила прославленная летчица Герой Советского Союза Валентина
Степановна Гризодубова. Она недоуменно сказала, что в городе не ходят трамваи, не
работает метро и закрыты булочные.
– Звонила и Щербакову, и Пронину, и Микояну, – возмущалась энергичная Валентина
Степановна, – ни до кого не дозвонилась.
Шахурин сел в машину, поехал на свои заводы:
«Москва та и не та. Гризодубова оказалась права: не работал городской транспорт, закрыты магазины. На запад идут только военные машины, на восток – гражданские, нагруженные до отказа людьми, узлами, чемоданами, запасными бидонами с бензином».
Наркома вызвали в Кремль, на квартиру Сталина. Нарком разделся и прошел по
коридору в знакомую ему столовую. Мебель на месте, но бросилось в глаза то, что в
книжном шкафу нет книг. Шахурин заметил, что сапоги у Сталина были совсем старые.
Вождь поймал его удивленный взгляд и Объяснил:
– Обувку увезли, – и поинтересовался:
– Как дела в Москве?
Шахурин рассказал, что трамваи не ходят, метро не работает, магазины закрыты. На
заводе, где он побывал, рабочие возмущены, что им не выплатили обещанные деньги – не
хватило купюр в отделении Госбанка.
– Сам не видел, – добавил нарком, – но рассказывают, что на заставах есть случаи
мародерства. Останавливают машины и грабят.
– Ну, это ничего, – неожиданно спокойно заметил Сталин. – Я думал, будет хуже.
Приказал приехавшему Щербакову:
– Нужно немедленно наладить работу трамвая и метро. Открыть магазины. Вам и
Пронину – выступить по радио, призвать к спокойствию и стойкости…
Помолчав, Сталин поднял руку:
– Ну, все.
Похоже, вождь вздохнул с облегчением: Москва не вышла из повиновения и не
восстала. Опасаться нечего.
Не этот ли момент имел в виду Сталин, когда после победы, 24 июня 1945 года, на
приеме в Кремле в честь командующих родами войск Советской армии Сталин произнес
свою знаменитую речь о русском народе?
– Я как представитель нашего советского правительства хотел бы поднять тост за
здоровье нашего советского народа и прежде всего русского народа, – говорил тогда
вождь. – У нашего правительства было немало ошибок, были у нас моменты отчаянного
положения, когда наша армия отступала… Какой-нибудь другой народ мог бы сказать: ну
вас к черту, вы не оправдали наших надежд, уходите прочь, мы поставим другое
правительство, которое заключит мир с Германией и обеспечит нам покой. Это могло
случиться, имейте в виду! Но русский народ на это не пошел, русский народ не пошел на
компромисс, он оказал безграничное доверие нашему правительству. Повторяю, у нас были
ошибки, наша армия вынуждена была отступать, выходило так, что не овладели событиями, не совладали с создавшимся положением. Однако русский народ верил, терпел, выжидал и
надеялся, что мы все-таки с событиями справимся. Вот за это доверие нашему
правительству, которое русский народ нам оказал, спасибо ему великое! За здоровье
русского народа!..
Вечером того же 16 октября в одном из кабинетов Совинформбюро сидели начальник
Управления пропаганды и агитации ЦК партии Георгий Федорович Александров и Мечислав
Ильич Бурский, один из постоянных авторов бюро. Бурский позднее описал эту сцену
20
своему родственнику – театральному критику Иосифу Ильичу Юзовскому:
«Только что получено телефонное распоряжение о срочной эвакуации, еще
полусекретное. Слух, что немцы могут ворваться с часу на час. Отдаются какие-то
распоряжения. Лихорадочная атмосфера. Александров достает бутылку коньяку. Пьют из
стакана и из крышки графина. Бурский настроен спокойно-фаталистически, а Александров
панически. Опьянев, он начинает красноречиво говорить о том, что, вот, мол, как кончаются
великие империи… Бурский возражает, что это еще не конец. Александров спорит с ним.
Потом, вдруг протрезвев, испуганно замолкает».
Георгий Федорович Александров – известная в ту эпоху (пожалуй, анекдотически
известная) личность. Автор учебника по истории западноевропейской философии, он в
реальности даже не читал классиков мировой философской мысли. Творческая манера
Александрова была известна в Москве. Рассказывали, как он вызывал к себе талантливого
молодого ученого и говорил ему примерно следующее:
– Тут звонили из госбезопасности, справлялись о вас. Плохи ваши дела. Единственное
для вас спасение – срочно написать такую-то книгу.
Александров запугивает его вновь и вновь и в конце концов получает рукопись, на
которой смело ставит свое имя и отдает в издательство. Научные труды и звания помогли
ему сделать карьеру в ЦК.
«Вот этого разговора и своей паники, – вспоминал Юзовский, – Александров не мог
забыть их свидетелю – Бурскому. Затем произошла темная история с осуждением Бурского в
штрафники. Судом дергала рука Александрова… Бурский был убит в штрафном батальоне».
После смерти Сталина Георгия Федоровича Александрова сделали министром
культуры. Но весной 1955 года в подмосковной Валентиновке открылось «гнездо разврата», где развлекался с женщинами легкого поведения главный идеолог и партийный философ
страны Александров, а с ним еще несколько высокопоставленных чиновников от культуры.
Писатель Корней Иванович Чуковский записал в дневнике:
«Подумаешь, какая новость! Но разве в этом дело. Дело в том, что он бездарен, невежественен, хамоват, вульгарно-мелочен…
В городе ходит много анекдотов об Александрове. Говорят, что ему позвонили 8 Марта
и поздравили с Женским днем.
– Почему вы поздравляете меня?
– Потому что вы главная наша проститутка».
Кто мог – бежал
16 октября в 18.05 начальник метро приказал возобновить работу. Через сорок минут
пошли поезда. Демонтаж метро прекратили.
Управляющему московским трамвайным трестом позвонил председатель исполкома
Моссовета Василий Пронин:
– Почему не работают трамваи?
Управляющий включил центральный диспетчерский пункт. Диспетчер доложил, что на
всех конечных станциях трамваи прибывают и вновь отправляются в рейсы. Но город не
успокоился. Ситуация только ухудшалась.
Выполняя указание вождя (сам не решился!), Щербаков по радио обратился к
москвичам:
– Под давлением вражеских войск, прорвавших на одном из участков фронта нашу
оборону, части Красной армии отошли на оборонительный рубеж ближе к Москве. Над
Москвой нависла угроза. Но за Москву будем драться упорно, ожесточенно, до последней
капли крови… Самым опасным является паника, чего допустить нельзя… Сохраняйте
выдержку и дисциплину! Обеспечивайте порядок! Московские организации обязали всех
руководителей торговых предприятий, городского транспорта, коммунальных и лечебных
учреждений обеспечивать нормальную работу в городе. Директора и руководители
21
предприятий и учреждений обязаны обеспечить твердый порядок… Товарищи, будьте
бдительны! Провокаторы будут пытаться сеять панику. Не верьте слухам! Разоблачайте и
задерживайте шпионов и провокаторов!
Свое обращение Щербаков закончил словами:
– Да здравствует Сталин!
Этих слов в подготовленном для него тексте не было. Здравицу вождю московский
хозяин сам дописал карандашом. Его выступление было первым голосом исчезнувшей
власти. Вечером передали и выступление Пронина. Ждали, конечно, слов Сталина. Но вождь
молчал.
В тот же день, 17 октября, Александр Щербаков санкционировал решение секретариата
горкома, написанное в спешке, и потому не слишком грамотное:
«За неустойчивость в условиях, когда советский народ ведет борьбу с гитлеровцами и
которая представляет опасность для партии:
а) Дашко И.И. снять с поста первого секретаря Коминтерновского РК ВКП(б) и
исключить из партии;
б) снять с поста первого секретаря Ленинградского РК ВКП(б) Коростылева А.В.
и исключить из партии».
17 октября профессор-литературовед Леонид Иванович Тимофеев записывал в дневник:
«Сегодняшний день как-то спокойнее. Тон газет тверже. Немцев нет, и нет признаков
ближнего боя. Объявилась руководящая личность: выступил по радио Щербаков, сказал, что
Москва будет обороняться, предупредил о возможности сильных бомбардировок…
Для партии и вообще руководства день 16 октября можно сравнить с 9 января 1905
года. Население не скрывает своего враждебного и презрительного отношения к
руководителям, давшим образец массового безответственного и, так сказать, преждевременного бегства. Это им массы не простят.
Слухи (как острят, агентства ГОГ – говорила одна гражданка, ОБС – одна баба сказала
и т. п.) говорят, что Сталин, Микоян и Каганович улетели из Москвы 15-го. Это похоже на
правду, так как развал ощутился именно с утра 16-го. Говорят, что Тимошенко в плену, Буденный ранен, Ворошилов убит. Во всяком случае сегодня газеты признали, что наши
войска окружены на Вяземском направлении. Вчера все шло по принципу «спасайся кто
может». Убежали с деньгами многие кассиры, директора…
Сегодня говорят о расстрелах ряда бежавших директоров военных предприятий, о том, что заставы на всех шоссе отбирают в машинах все, что в них везут, и т. п. Но очереди
огромные. Резко усилилось хулиганство. Появились подозрительные личности: веселые и
пьяные. Красноармейцы не отдают чести командирам и т. п. Но части проходят по Москве с
песнями, бодро…»
В реальности 17 октября исход из Москвы продолжался.
Кто мог – бежал из города. «17 октября, – вспоминал Ираклий Иванович Синягин, будущий вице-президент сельскохозяйственной академии наук, – я пошел в районный
военкомат. Он помещался в школе, где я учился. Многие комнаты были пусты. Было
впечатление, что сотрудники военкомата готовятся к эвакуации. Я добился приема у
начальника третьего отделения. Я сказал этому офицеру, что способен носить оружие и
прошу призвать меня в армию. Он ответил: «Эвакуируйтесь – такой сегодня приказ!»
Начальник главного управления Наркомата судостроительной промышленности
Александр Иванович Шокин, будущий министр электронной промышленности СССР, был
после начала войны назначен особоуполномоченным Наркомата по производству
боеприпасов на московских заводах.
Он получил приказ об эвакуации. 17 октября с товарищами выехал на автомашине из
Москвы по единственной остававшейся дороге на Горький. На шоссе Энтузиастов машину
остановила толпа с криками:
– Не дадим начальству драпать!
Они попытались открыть дверцу машины и вытащить Шокина. Но Александр
22
Иванович был вооружен. Им удалось отбиться и уехать.
В город стягивали все войска, которые можно было собрать.
До войны лейтенант-артиллерист Александр Григорьевич Журавлев был начальником
экспериментального цеха на Московском трансформаторном заводе. Его полк стоял на
подмосковной станции Коломна. 17 октября полк подняли по тревоге.
«Перед нами выступил командир полка, ничего толком не объяснил, приказал идти на
станцию, чтобы ехать в Москву, – вспоминал Журавлев. – На станции мы просидели до
вечера. На Москву не было ни одного поезда. Зато из Москвы по всем колеям шли
бесконечные составы с оборудованием, с народом. Народу было! Мы тут поняли – что-то
нехорошее случилось.
Мы увидели Москву 17 октября. Ночью в казармах около Даниловского рынка
пережили сильную бомбардировку. Утром получили приказ занять огневые позиции на
опушке Филевского парка. Мы шли пешком и видели, какой была Москва. Крымский мост
был заминирован. Около станции метро «Парк культуры» в рост человека были навалены
мешки с песком. На Дорогомиловской улице – такие же баррикады… В магазинах на улице
Горького витрины были завалены мешками с песком. Видел один дом, в котором не было
четвертой стены. Все насквозь было видно».
Александр Журавлев закончил войну в Праге, за форсирование Днепра получил
Золотую Звезду Героя Советского Союза…
Его однофамилец – начальник управления НКВД Журавлев докладывал в наркомат:
«17 октября с. г. рабочие завода электротермического оборудования (Таганский район
города Москвы), вооружившись чем попало (молотки, лопаты), окружили территорию
завода. Требуя выдачи зарплаты, рабочие ничего не выпускали с завода.
На Ногинском заводе № 12 группа рабочих в количестве 100 человек настойчиво
требовала от дирекции завода выдачи хранившихся на складе 30 тонн спирта. Опасаясь
серьезных последствий, директор завода Невструев вынес решение выпустить спирт в
канализацию. Ночная смена вахтерской охраны завода оставила пост и разграбила склад
столовой с продовольствием, вследствие чего питание рабочих сорвано. Группа рабочих
этого же завода напала на ответственных работников одного из главков Наркомата
боеприпасов, ехавших из города Москвы по эвакуации, избила их и разграбила вещи.
Группа рабочих завода № 67 имени Тимошенко (Сталинский район города Москвы) разбила стоявшую у заводского склада грузовую автомашину с продуктами, предназначавшимися для эвакуированных детей. В составе группы были члены ВКП(б)…
Собравшиеся у ворот автозавода имени Сталина 1500 рабочих требовали пропустить их
на территорию завода и выдать зарплату. Вахтерской охраной рабочие на завод допущены не
были. Вахтеру, охранявшему проходную будку, было нанесено в голову ранение лопатой и
избиты два милиционера, пытавшиеся восстановить порядок…
С завода № 156 Наркомата авиационной промышленности ночью сбежали директор
завода Иванов, пом. директора по найму и увольнению Шаповалов и начальник отдела
кадров Калинин. Так как Шаповалова с машиной с территории завода охрана не пропускала, он угрожал вахтеру оружием. Группа рабочих этого завода (главным образом из состава
вооруженно-вахтерской охраны) во главе с мастером Жеренковым взломала склад со
спиртом. Все участники напились пьяными…
На заводе № 8 (Мытищинский район) около 1000 рабочих пытались проникнуть во
двор. Отдельные лица при этом вели резкую контрреволюционную агитацию и требовали
разминировать завод. Отправлявшийся с завода эшелон с семьями эвакуированных
разграблен. Кроме того, рабочие угрожали разграбить кассу с деньгами. В 13 часов 30 минут
на заводе возник пожар, в результате которого полностью уничтожен материальный склад
управления капитального строительства… В грабеже принимали участие замдиректора
завода Петров и председатель месткома. При попытке воспрепятствовать расхищению
склада избиты секретарь парткома завода и представитель райкома ВКП(б)…
На заводе № 69 Наркомата вооружения во время погрузки технического спирта для
23
отправки в гор. Свердловск группа рабочих силой изъяла бочку со спиртом и организовала
пьянку. Директор завода и уполномоченный НКВД были вынуждены выставить
вооруженную охрану, которая первоначально ничего не смогла сделать и применила
оружие… Парторг ЦК ВКП(б) Маляренко с завода сбежал и выехал в Свердловск. Рабочие
завода два дня не получают хлеба и ходят за ним пешком в Москву.
В Мытищинском районе толпой задержаны автомашины с эвакуированными семьями
горкома партии. Остановлены девять машин. Вещи с машин сняты. Выслана одна рота
истребительного батальона. По городу расставлены патрули.
Руководители районных организаций гор. Перово (райком ВКП(б), райисполком и др.) прекратили работу».
Драпали все. И в те годы появилась злая шутка. Спрашивается:
– На какой ленточке медаль «За оборону Ленинграда»?
Ответ:
– На муаровой.
– А медаль «За оборону Москвы»?
– На драповой!..
Эвакуация с привилегиями
Верховный Совет СССР, аппарат правительства во главе с первым заместителем
председателя Совнаркома Николаем Алексеевичем Вознесенским отбыли в Куйбышев.
Центральное статистическое управление отправили в Томск, Наркоматы мясной
промышленности и земледелия, Сельхозбанк обосновались в Омске, Наркомат торговли – в
Новосибирске, Главное управление Северного морского пути – в Красноярске.
Наркомат вооружения предполагалось отправить в Ижевск, но там уже негде было
приткнуться. Второе место – Киров, но оттуда не было бы надежной связи с заводами.
Решили эвакуироваться в Пермь.
С 15 октября Московский железнодорожный узел отправлял ежедневно примерно
двадцать пять демонтированных предприятий, которые перебазировались на восток и
юго-восток.
16 октября в столицу вернулся с фронта заместитель главного военного прокурора
Красной армии Николай Порфирьевич Афанасьев. В военной прокуратуре тоже шла
подготовка к эвакуации:
«Беготня, неразбериха, шум. Кипы всяких бумаг и дел таскали в котельную для
сжигания. Кто и чем распоряжался, понять было трудно… Все это делалось в спешке, с
криком и перебранкой… Рано утром 17 октября прокуратура эвакуировалась. Дом на
Пушкинской, 15, совершенно опустел. Охрана, милиция, что охраняли вход с улицы, тоже
исчезли. Правда, осталась при прокуратуре столовая от какого-то райпищеторга. Работники
ее тоже собирались свертывать работу, но я приказал работу столовой продолжать».
Люди в страхе бросились на вокзалы и штурмовали уходившие на восток поезда.
«По дороге, – это детские впечатления, – вместе с машинами и людьми шли коровы.
Иногда девушки вели, как слонов на привязи, длинные надувные шары (аэростаты
противовоздушной обороны). Я очень боялась, что девушки могут улететь с этими
огромными шарами. А однажды, когда мы с мамой пошли к врачу (на Лесную улицу), то на
асфальте валялся даже шоколад, но брать его не разрешалось, так как по нему ходили люди
(во время паники разграбили фабрику «Большевик») у Белорусского вокзала.
А потом за нами приехали на грузовике люди с маминой работы и стали ей говорить, что надо уезжать. Она не соглашалась. Тогда кто-то посадил меня в кузов грузовика…»
Генерал-лейтенант Павел Андреевич Ермолин, заместитель начальника тыла Красной
армии, вспоминал:
«Из окон Главного управления тыла, выходивших на улицу, можно было видеть
автобусы и машины, заполненные взрослыми, детьми и домашними вещами. Появились
24
старики и женщины, тянувшие салазки с мешками и чемоданами. С ними шли дети –
малыши и школьники. Они двигались в сторону Комсомольской площади, к Казанскому
вокзалу. В 18 час. 20 мин. из Москвы были отправлены первые эшелоны с эвакуированными.
За одну ночь железнодорожники вывезли около ста пятидесяти тысяч человек, а к десяти
часам утра 17 октября они смогли подать еще свыше ста поездов…»
Мария Иосифовна Белкина, жена критика Анатолия Кузьмича Тарасенкова, рассказывала, как перед эвакуацией из Москвы, 13 октября, она зашла в буфет Клуба
писателей на улице Воровского:
«В дубовом зале свет не горел, у плохо освещенного буфета стояли писатель Валентин
Катаев и Володя Луговской. Последний подошел ко мне, обнял.
– Это что – твоя новая бл. дь? – спросил Катаев.
– На колени перед ней! Как ты смеешь!? Она только недавно сына родила в
бомбоубежище! Это жена Тарасенкова.
Катаев стал целовать меня. Они оба не очень твердо держались на ногах. В
растерянности я говорила, что вот и билеты уже на руках и рано поутру приходит эшелон в
Ташкент, а я все не могу понять – надо ли?
– Надо! – не дав мне договорить, кричал Луговской. – Надо! Ты что хочешь остаться
под немцами? Тебя заберут в публичный дом эсэсовцев обслуживать!
И Катаев вторил ему:
– Берите ребеночка своего и езжайте, пока не поздно, пока есть возможность, потом
пойдете пешком. Погибнете и вы, и ребенок. Немецкий десант высадился в Химках…
Огромная вокзальная площадь была забита людьми, вещами; машины, беспрерывно
гудя, с трудом пробирались к подъездам… Мелькали знакомые лица. Пудовкин, Любовь
Орлова (я случайно окажусь с ними в одном вагоне). Все пробегали мимо, торопились, кто-то плакал, кто-то кого-то искал, кто-то кого-то окликал. Какой-то актер волок огромный
сундук и вдруг, взглянув на часы, бросил его и побежал на перрон с одним портфелем, а
парни-призывники, обритые наголо, с тощими котомками, смеялись над ним.
Подкатывали шикарные лаковые лимузины с иностранными флажками –
дипломатический корпус покидает Москву. И кто-то из знакомых на ходу шепнул: правительство эвакуируется, Калинина видели в вагоне!
А я стояла под мокрым, липким снегом, который все сыпал и сыпал. Стояла в луже в
промокших башмаках, держа на руках сына, стояла в полном оцепенении, отупении посреди
горы наваленных на тротуаре чьих-то чужих и своих чемоданов, и когда у меня
окончательно занемели руки, я положила сына на высокий тюк и услышала крик:
– Барышня, барышня, что вы делаете, вы же так ребенка удушите – вы положили его
лицом вниз!..»
«17 октября. Курский вокзал, – вспоминал полковник-артиллерист Павел Кузьмич
Коваленко. – В зале вокзала негде ступить – все лестницы, где можно только поставить ногу, заполнены живыми телами, узлами, корзинами… Ожил в памяти 1919 год – год разгара
Гражданской войны, голода, разрухи и тифа… Кто мог предвидеть такое? Здесь неуместно
говорить о многих вещах, но после войны, можно полагать, будет произведена коренная
реформа во всех областях нашей экономики, перестройка воспитания».
«Вокзалы запружены уезжающими, – таким запомнил этот день врач «скорой помощи»
Александр Григорьевич Дрейцер. – На привокзальных площадях очереди с вывесками
организации на шесте. Толпы сидят на своем скарбе. Только воздушная тревога разгоняет
эти толпы на время. Наживаются носильщики, люди с тачками и воришки… Везде одна тема
разговора: куда ехать, когда едете, что везете с собой и т. д.
Заводы и фабрики отпустили рабочих. Дали аванс за месяц вперед. Выдают всему
населению по пуду муки.
Метро сутки не работало. На базарах и на улицах продают краденые конфеты и
шоколад. Говорят, будто мясокомбинат разгромлен. По улицам проходят гурты скота. По
Садовой угоняют куда-то несметное количество свиней. Темные личности бродят около и
25
тянут в подворотни свиней чуть ли не на глазах у пастухов».
Корней Иванович Чуковский записал в дневник впечатления об отъезде в эвакуацию:
«Вчера долго стояли неподалеку от Куйбышева, мимо нас прошли пять поездов – и
поэтому нам не хотели открыть семафор. Один из поездов, прошедших вперед нас, оказался
впоследствии рядом с нами на куйбышевском вокзале, и из среднего вагона (зеленого, бронированного) выглянуло печальное лицо М.И. Калинина.
Я поклонился, он задернул занавеску. Очевидно, в этих пяти поездах приехало
правительство. Вот почему над этими поездами реяли в пути самолеты, и на задних
платформах стоят зенитки».
Член политбюро Михаил Иванович Калинин долгие годы занимал пост, который в
других странах считают президентским. Он был председателем Президиума Верховного
Совета СССР. Формально у него в руках была высшая государственная власть. Фактически
он оформлял решения, принятые политбюро. Его жену в октябре 1938 года посадили на
пятнадцать лет…
Поскольку все дипломаты уехали из Москвы, в здания иностранных миссий и личные
резиденции послов вмонтировали подслушивающие устройства. Через несколько лет, когда
дипломаты вернутся в Москву, они обнаружат эту технику, и возникнет скандал. Чекисты
найдут оправдание: это была мера на случай временной оккупации немцами Москвы.
Дескать, предполагали, что в этих зданиях разместятся немецкие генералы и крупные
чиновники. Вот оставленное в городе подполье и готовилось их подслушивать…
Аппарат Наркомата внутренних дел тоже был эвакуирован (вместе с семьями) из
Москвы. Берия оставил в столице только оперативные группы.
Наркомат обороны и Наркомат Военно-морского флота перебрались в Куйбышев.
Вечером 17 октября ушли два железнодорожных эшелона с личным составом Генштаба, который во главе с маршалом Шапошниковым перебрался в Арзамас-11.
«Я по обыкновению заглянул в Генеральный штаб для ориентировки в текущих
делах, – вспоминал редактор «Красной звезды» Давид Ортенберг, – а там многие комнаты
опустели. Комиссар Генштаба Ф.Е. Боков объяснил, что в Москве оставлена небольшая
оперативная группа во главе с А.М. Василевским, а все остальные перебазировались на
запасной командный пункт».
Федор Ефимович Боков, окончив в 1937 году Военно-политическую академию имени
В.И. Ленина, был назначен ее начальником. В сорок первом Сталин сделал его военным
комиссаром Генерального штаба. Генерал-лейтенант Боков, человек без военных знаний и
талантов, иногда оставался в Генштабе старшим начальником и докладывал Верховному
главнокомандующему оперативные разработки.
После войны Сталин любил говорить:
– А помните, когда Генеральный штаб представлял комиссар штаба Боков?..
Вспоминая Бокова, Сталин весело смеялся. Между тем сам вождь считал Генштаб
«канцелярией» и не уважал талантливых штабистов, которые держали в руках все нити
управления вооруженными силами. За первые шестнадцать месяцев войны сменились три
начальника Генерального штаба – Жуков, Шапошников, Василевский. Еще чаще менялись
начальники важнейшего оперативного управления, которые, конечно, не успевали освоиться
в новой роли. Дольше всех продержался генерал Сергей Матвеевич Штеменко, который
вполне устраивал Верховного.
А среди офицеров Генерального штаба и так была распространена нервозность. В
провалах на фронте винили предателей и паникеров. Одного из операторов Генштаба
приехавший с фронта военачальник обвинил в преувеличении мощи противника.
Оставшиеся в Москве Генштабисты, вспоминал генерал Сергей Штеменко, работали
круглосуточно. На ночь располагались в вагонах метро на станции «Кировская», но сидя
спать было плохо, и туда подогнали железнодорожные вагоны. Тогда уже разместились с
некоторым комфортом. В ночь на 29 октября фугасная бомба разорвалась во дворе
Генштаба. Погибли три шофера, несколько человек были ранены. Генштаб остался без
26
кухни. После этого уже полностью обосновались в метро.
Ситуация под Москвой была неясна, поэтому утром операторы Генштаба садились в
машины, ехали в штаб Западного фронта в Перхушково, затем объезжали штабы армий и
таким образом собирали информацию. Оставшийся за начальника Генштаба Василевский
понравился Сталину, и 28 октября он произвел Александра Михайловича в
генерал-лейтенанты…
«Когда началась война, – вспоминала юная тогда девушка, – я сдавала экзамены за
четвертый курс Института философии, литературы и истории. Нам разрешили сдать
экзамены без пятого курса. Нам казалось, что нормальная жизнь никогда не вернется. Наши
мальчики все пошли добровольцами. Мы (компания девочек) получили бланки, где должны
были расписаться профессора в приеме госэкзаменов.
Приехали мы к Дмитрию Николаевичу Ушакову. Он сидел в кресле у стола, заваленного бумагами, был бледен, небрит. Комната заставлена чемоданами. Мы, перебивая
друг друга, объяснили суть дела. Ушаков рассеянно нас выслушал и сказал:
– Какие могут быть экзамены? Давайте бумажку, я подпишу.
Эту бумагу – документ о сдаче госэкзаменов – я возила в сумочке, когда ехала в
Сибирь. В конце ноября, когда моя одиссея подходила к концу, я купила на новосибирском
вокзале полкило соленых грибов, черных, скользких шляпок. За неимением другой тары, грибы я завернула в этот документ, благо бумага была большая, глянцевая, плотная. А потом
ее, размокшую, выбросила. Впоследствии это обошлось мне в три года учебы в заочном
пединституте. Без этого у меня считалось неоконченное высшее образование. Это снижало
зарплату, а впоследствии снизило бы и пенсию…
В институте нам всем предложили ехать в Министерство просвещения распределяться
на работу. Я получила направление в Хабаровский край. Мой папа, который очень боялся, что немцы возьмут Москву и старался спасти хотя бы меня (сам он был начальником
госпиталя), достал мне место в эшелон, который уходил на восток.
Ночь на семнадцатое октября. Бомбили каждый день. Три часа мы с отцом сидели
прямо на пощади Курского вокзала и ждали посадки в эшелон. Над нами скрещивались лучи
прожекторов и трассирующие зеленые и красные пулеметные очереди. Где-то очень высоко
загорелся немецкий бомбардировщик, потом второй, третий. Они упали далеко, не видно
было. Я очень боялась. Потом пошла к эшелону, попрощалась, и папа ушел.
Поезд составлен из дачных вагонов, их тащит паровоз. Нас в вагоне более шестидесяти
человек. Места сидячие. Здесь я жила около полутора месяцев. Когда выпал снег, мы купили
железную печурку (буржуйку), около нее грелись. Топили углем, который воровали с
платформ по ночам, пролезая на редких остановках под вагонами. В день нам должны были
выдавать четыреста граммов хлеба, но это бывало редко. Чаще выдавали по четыре больших
«армейских» сухаря. Кроме этого, у меня не было никакой еды. Не было и чайника. Кипяток
мне давали из жалости, но редко. Я очень голодала. Однажды в привокзальном буфете нам
без карточек дали по миске щей с куском свинины. В результате я заболела колитом, три дня
лежала в бреду и не умерла, думаю, только по молодости лет. В эшелоне мы не мылись (не
было воды), покрылись вшами. Спала я сидя, ноги у меня распухли так, что по окончании
эпопеи валенки можно было снять только разрезав ножом…»
Другие ехали с большим комфортом. Советское общество было сословным и кастовым.
Все зависело от занимаемой должности и принадлежности к той или иной группе. Скажем, Сталин высоко ценил идеологическую роль писателей и оделял их различными
привилегиями. Впрочем, во время поспешной эвакуации из Москвы в октябре сорок первого
в черный список попал и генеральный секретарь Союза советских писателей Александр
Фадеев. Его обвинили в том, что он фактически бежал из столицы и бросил
товарищей-писателей на произвол судьбы.
Вторым человеком в аппарате Союза писателей, ведавшим всеми организационными
делами, был в ту пору Валерий Яковлевич Кирпотин, литературный критик, работавший в
тридцатые годы в ЦК партии. Всю жизнь он вел дневник, опубликованный после его смерти.
27
«Писатели нашли свое место на войне, – отмечал Валерий Кирпотин. – Но есть случаи
иного порядка. Леонид Максимович Леонов желает добыть себе разрешение, официально
оформленное, для отъезда. Мещанская суть его выразилась особенно в претензии, чтобы
правительство взяло тридцать (и его, конечно, в том числе) писателей с семьями и поместило
бы на время войны в санаторий. Хочется, чтобы пылинка не коснулась благообразного и
добротного быта, хотя бы весь мир был в огне…
Видимо, действует он на переделкинцев. Погодин требовал отъезда в Ташкент, говорил, что иначе сопьется. Но очухался и засел писать пьесу. Хочет уехать Федин, но с
соблюдением приличий. Трогателен Пастернак, который вовсе не трусит. Стоял на крыше,
«ловил» немецкие «зажигалки». Находит прелесть в московской жизни без семьи, с
опасностью, не теряет внутренней свободы…»
Все вели себя по-разному.
«Вернулись Фадеев и Шолохов, – пометил в дневнике Аркадий Первенцев. – Они были
всего три дня на фронте. Сейчас Шолохов в «Национале». Так, конечно, можно воевать.
Интересно, какие выводы он сделал из своей поездки по фронту?»
Писатели ждали эвакуации. Очевидцы писали о заискивающих голосах и бледных, потных лицах тех, кто добывал документы на выезд. По плану эвакуации посылали в Казань.
Самые практичные просили Ташкент – там теплее и сытнее. Наиболее важные, номенклатурные писатели получали уверения в том, что они значатся в особом списке – их
«вывезут в любую минуту и не допустят остаться на съедение врагу».
Выезд из Москвы контролировался партийным аппаратом. Первый секретарь
Сокольнического райкома партии Екатерина Ивановна Леонтьева жаловалась руководителям
города:
– Повальное шествие в райком партии – командировки туда, командировки сюда. Везде
визы стоят то начальника главка, то председателя какого-нибудь союза, объединения –
«разрешаю», «разрешаю».
– А командировки куда? – поинтересовался Щербаков.
– Спрашиваем, куда командировки. Говорят в Свердловск. А где семья? В Свердловске.
Или командировка в Молотов (ныне Пермь. – Авт.) Спрашиваем – где семья? В Молотове.
Недавно была командировка в Тамбов. Я спрашиваю – где ваша семья? В Тамбове. Были
случаи со стороны начальников главков. Я имею в виду Главмуку. Они эвакуировали семьи, а теперь некоторые семьи возвращают, и тут у них находятся опять мотивы, аргументация –
как бы семью вернуть. Или отправляют начальника отдела технического контроля
макаронной фабрики в Иркутск. Я говорю: неужели нельзя найти другого человека?
Отвечают: он незаменим. А как же фабрика? На этой фабрике настроение нездоровое, а главк
и наркомат политически к этому делу не подходят.
– Это дезертиры и их покровители, – грозно констатировал Щербаков.
– У нас есть директор тароремонтного завода, – продолжала секретарь райкома. – Нам
пришлось его вытащить на бюро и сделать показательное совещание. Два дня для него чурки
готовили на газогенераторной машине, и в воскресенье он делает до трехсот километров к
своей семье. И здесь тоже пишет начальник – «разрешаю»!
Екатерину Леонтьеву взяли на партийную работу перед войной, первым секретарем
райкома она стала в апреле сорок первого, а до этого работала заместителем декана
исторического факультета Московского института истории, философии и литературы.
Валерий Кирпотин, конечно же, описал и 16 октября:
«Фадеев сидел дома напряженный, как струна, ждал, когда за ним приедут. Сам
позвонить Щербакову не решался. Мне он сказал по телефону:
– Позвони Щербакову, назовись моим именем, и он возьмет трубку.
Я позвонил секретарю ЦК!
Мне сказали:
– Его нет.
Я сказал Фадееву:
28
– Щербакова нет.
Он воскликнул:
– Значит, он уехал!
Из этих слов я понял: он узнал, что хотел узнать.
– Не ехать – это измена, – добавил Фадеев. – Восстанови вагоны, которые были
выделены писателям для эвакуации.
И я, не имея власти, пробивался на фантастически перегруженном Казанском вокзале
через груду тел к каким-то дежурным, толкался, лез, наивно и самоотверженно выполняя
невыполнимое поручение, которое должен был выполнить сам Фадеев со своей
«вертушкой», со своим положением члена ЦК…
Фадеев не имел права давать мне безнадежных поручений. Я не должен был вести себя
как добродетельная овца.
Фадеев уехал нормально, со всеми удобствами. Он знал, что я могу биться на вокзале
головой о стену и ничего не добьюсь. Но он со свойственным ему в иные минуты цинизмом
сделал меня потом козлом отпущения».
Аркадий Первенцев и Федор Панферов, крупная фигура в писательском мире, пришли
в здание Союза писателей. Спросили у Кирпотина:
– Какие новости?
– Звонил Фадеев. Он сказал, чтобы писатели выезжали кто как может. Надежды на
отдельный эшелон нет.
– Где Фадеев?
– Я пробовал с ним связаться. Его уже нет.
– Где Хвалебнова?
Ольга Александровна Хвалебнова служила партийным секретарем в Союзе писателей.
По совместительству она была женой Ивана Федоровича Тевосяна, наркома черной
металлургии. Взял ее в союз Фадеев, однокашник Тевосяна по Горной академии.
– Ее нет, – ответил Кирпотин.
– Они уже сбежали?
– Вероятно.
«Звонили в ЦК, – вспоминал Первенцев. – Ни один телефон не отвечал. Только
телефонистки, несмотря на грядущую опасность, оставались на местах. Они не имели
собственных или государственных автомобилей. Они не имели права покинуть посты.
Только важные лица сбежали».
Писатели были недовольны своим генсеком, считая, что Фадеев перестал руководить
Союзом писателей и плохо заботится о литераторах.
Александр Александрович Фадеев, эвакуированный в Куйбышев, ответил на обвинения
оправдательной запиской секретарям ЦК Сталину, Андрееву и Щербакову:
«Среди литераторов, находящихся в настоящее время в Москве, распространяется
сплетня, будто Фадеев «самовольно» оставил Москву, чуть ли не бросив писателей на
произвол судьбы.
Ввиду того, что эту сплетню находят нужным поддерживать некоторые видные люди, довожу до сведения ЦК следующее:
1. Днем 15 октября я получил из Секретариата тов. Лозовского директиву явиться с
вещами в Информбюро для того, чтобы выехать из Москвы вместе с Информбюро…
Я не мог выехать с Информбюро, так как не все писатели по списку, составленному в
Управлении агитации и пропаганды ЦК, были мною погружены в эшелон, и я дал
персональное обязательство тов. Микояну и тов. Швернику выехать только после того, как
получу указание Комиссии по эвакуации через тов. Косыгина.
Мне от имени тов. Щербакова разрешено было задержаться насколько необходимо. Я
выехал под утро 16 октября, после того как отправил всех писателей, которые мне были
поручены, и получил указание выехать от Комиссии по эвакуации через тов. Косыгина.
2. Я имел персональную директиву от ЦК (тов. Александров) и Комиссии по эвакуации
29
(тов. Шверник, тов. Микоян, тов. Косыгин) вывести писателей, имеющих какую-нибудь
литературную ценность, вывести под личную ответственность. Список этих писателей был
составлен тов. Еголиным (работник ЦК) совместно со мной и утвержден тов.
Александровым. Он был достаточно широк – 120 чел., а вместе с членами семей некоторых
из них – около 200 чел. (учтите, что свыше 200 активных московских писателей находится на
фронте, не менее 100 самостоятельно уехало в тыл за время войны и 700 с лишним членов
писательских семей эвакуированы в начале войны).
Все писатели и их семьи, не только по этому списку, а со значительным превышением
(271 чел.) были лично мною посажены в поезда и отправлены из Москвы в теч ение 14 и 15
октября (за исключением Лебедева-Кумача – он еще 14 октября привез на вокзал два пикапа
вещей, не мог их погрузить в течение двух суток и психически помешался, – Бахметьева, Сейфулиной, Мариэтты Шагинян и Анатолия Виноградова – по их личной вине). Они, кроме
А. Виноградова, выехали в ближайшие дни.
Для обеспечения выезда всех членов и кандидатов Союза писателей с их семьями, а
также работников аппарата Союза (работников Правления, Литфонда, Издательства, журналов, «Литгазеты», Иностранной комиссии, Клуба) Комиссия по эвакуации при
Совнаркоме СССР по моему предложению обязала НКПС предоставить Союзу писателей
вагоны на 1000 чел. (в эвакуации какого-либо имущества и архивов Правления Союза было
отказано). За 14 и 15 октября и в ночь с 15 на 16-е организованным и неорганизованным
путем выехала примерно половина этих людей. Остальная половина (из них по списку 186
членов и кандидатов Союза) была захвачена паникой 16 и 17 октября. Как известно,