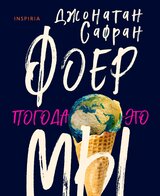Джонатан Сафран Фоер
Погода – это мы
Jonathan Safran Foer
We Are the Weather. Saving the planet begins at breakfast
Copyright © 2019 by Jonathan Safran Foer
© Нуянзина Мария, перевод на русский язык, 2021
© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2021
Саше и Саю, Сэди и Тео, Лео и Беа
Часть первая
То, во что невозможно поверить
Антология смерти
Древнейшая предсмертная записка[1] была написана в Древнем Египте около четырех тысяч лет назад. Переводчик оригинала озаглавил ее «Спор с душой того, кто устал от жизни». Первая строчка гласит[2]: «Я открыл рот, обратившись к своей душе, дабы ответить на то, что она мне сказала». Кренгуя между прозой, диалогом и поэзией, далее следуют попытки человека убедить душу согласиться на самоубийство.
Я узнал об этой записке из «Антологии смерти», сборника фактов и баек, объединившего предсмертные желания Вергилия и Гудини, элегии на смерть додо и евнуха, объяснения ископаемых находок, электрического стула и вымирания видов в результате деятельности человека. В детстве я не отличался особой мрачностью, но несколько лет подряд везде таскал с собой эту мрачную книженцию в мягкой обложке.
Кроме того, «Антология смерти» просветила меня, что каждый мой вздох содержит молекулы последнего вздоха Юлия Цезаря. Этот факт был упоителен – пространство и время волшебным образом сжались, соединив то, что казалось мифом, с моей собственной жизнью, в которой я сгребал в кучу осенние листья и тупил в примитивные видеоигры, дело было в Вашингтоне, округ Колумбия.
В смысл этого факта было почти невозможно поверить. Если я только что вдохнул последний вздох Цезаря (Et tu, Brute?[3]), то я должен был вдохнуть и бетховенский («На небесах я буду слышать»), и дарвиновский («Ничуть не боюсь умирать»[4]). И последний вздох Франклина Делано Рузвельта, и Розы Паркс, и Элвиса, и пилигримов, и американских индейцев, участвовавших в первом Дне благодарения, и автора первой в истории предсмертной записки, и даже своего деда, которого никогда не видел. Будучи потомком выживших [в холокосте], я представлял, как последний вздох Гитлера просачивается сквозь трехметровую крышу бетонного Фюрербункера, девятиметровую толщу немецкого грунта и растоптанные розы рейхсканцелярии, прорывает Западный фронт и пересекает Атлантический океан, чтобы спустя сорок лет оказаться перед окном моей детской на втором этаже и надуть меня, словно шарик на годовщину смерти.
Если я вдохнул их последние вздохи, то наверняка вдохнул и первые, а также все, испущенные ими в промежутке. А также все вздохи всех на свете. И вздохи не только людей, но и животных: песчанки из школьного живого уголка, умершей у нас дома, еще теплых кур, которых бабушка ощипывала у себя в Польше, последний вздох последнего странствующего голубя. С каждым вздохом я вбирал в себя историю жизни и смерти на планете Земля. Благодаря этой мысли я взглянул на историю с высоты птичьего полета и увидел бесконечную паутину, сотканную из одной нити. Когда Нил Армстронг ступил ногой на поверхность Луны и произнес свое знаменитое «Один маленький шаг для человека…», сквозь поликарбонат светофильтра он послал вовне – отправил в беззвучный мир – молекулы, исторгнутые Архимедом с воплем «Эврика!», когда он мчался нагишом по улицам древних Сиракуз, обнаружив, что масса воды, вытесненная его телом из ванны, была равна массе его тела. (В компенсацию за вес взятого на Землю лунного грунта Армстронг оставил на Луне калошу от своего скафандра[5]). Когда Алекс, африканский серый попугай[6], обученный говорить на уровне пятилетнего ребенка, изрек свои последние слова: «До завтра, будь паинькой. Люблю тебя», – он одновременно исторг пыхтение ездовых собак, тянувших Роальда Амундсена через ледяные просторы, которые с тех пор растаяли, извергнув крики экзотических тварей, которых возили в Колизей на убой гладиаторам. Самым поразительным для меня было то, что во всем этом было место и для меня, и что я не мог бы покинуть его, даже если бы захотел.
Конец Цезаря одновременно был началом: вскрытие его тела оказалось в числе первых задокументированных процедур такого рода, благодаря чему нам и стало известно, что ему нанесли двадцать три кинжальных удара. Нет больше тех железных кинжалов. Нет пропитанной кровью тоги. Нет больше курии Помпея, где он был убит, а от метрополиса, где она стояла, остались одни руины. Нет больше Римской империи[7], когда-то занимавшей почти пять миллионов квадратных километров с населением в одну пятую населения всего земного шара, чье исчезновение было так же невообразимо, как исчезновение самой планеты.
Трудно придумать более эфемерный артефакт цивилизации, чем вздох. Но невозможно придумать более долговечный.
Несмотря на все мои воспоминания, никакой «Антологии смерти» не было. Когда я попытался подтвердить ее существование, то нашел вместо нее книжку под названием «Необычайные смерти всех и вся, собранные Чарльзом Панати», изданную, когда мне было двенадцать. Там есть про Гудини, про ископаемые находки и многое другое, осевшее у меня в памяти, но нет ничего ни про последний вздох Цезаря, ни про «Спор с душой», о которых я, вероятно, прочел где-то в другом месте. Эти небольшие поправки меня расстроили – не потому, что были важны сами по себе, а потому, что поколебали отчетливость моих воспоминаний.
Я расстроился еще больше, когда искал информацию о первой предсмертной записке и размышлял о ее заглавии или скорее о том, что она вообще была как-то озаглавлена. То, что наши воспоминания ошибочны, уже достаточно неприятно, но перспектива самому стать таким ошибочным воспоминанием – уже повод надолго потерять душевное равновесие. Доподлинно неизвестно даже то, совершил ли автор записки самоубийство. «Я открыл рот, обращаясь к своей душе», – пишет он в начале. Но последнее слово – за душой, которая убеждает человека «цепляться за жизнь». Мы не знаем, как он ответил. Вполне возможно, что спор с душой окончился выбором жизни, что отсрочило последний вздох автора. Возможно, противоборство со смертью открыло ему самую убедительную причину остаться в живых. Та предсмертная записка как ничто другое похожа на свою противоположность.
Никакой жертвы
Во время Второй мировой войны американцы в городах на Восточном побережье с наступлением темноты выключали свет. Непосредственная опасность им не угрожала[8], целью затемнения было помешать немецким субмаринам использовать городское освещение для обнаружения и уничтожения кораблей, выходивших из гавани.
С дальнейшим ходом войны затемнения стали устраивать по всей стране, даже далеко от побережья, чтобы вовлечь гражданское население в конфликт, ужасы которого оставались вне поля его зрения, но победа в котором требовала всеобщих усилий. Американцам в тылу было необходимо напоминание о том, что их привычная жизнь под угрозой, и единственным способом осветить эту угрозу была темнота. Пилоты Патруля гражданской авиации получали задания прочесывать в поисках вражеских